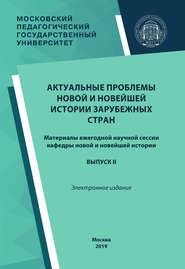 Полная версия
Полная версияАктуальные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран. Выпуск II
Говоря о различных аспектах сотрудничества КНР и США, не стоит забывать и о масштабах влияния этих экономических, политических и культурных акторов на весь мир. В контексте процесса глобализации эти государства рассматривают весь мир в качестве платформы для реализации собственной «мягкой силы». Попытки реализовать ее в различных регионах мира (Центральная, Юго-восточная Азия – для КНР, Европа – для США) сочетаются с вполне «жестким» вариантом экономического противостояния, одним из проявлений которого является регулярное нарушение Китаем прав интеллектуальной собственности на экономические и технологические достижения США. От этого страдают различные секторы американской экономики, что неизбежно ведет к значительным финансовым потерям. Так уже по состоянию на 2009 г. обозначенные потери в секторе высокотехнологичной и тяжелой промышленности находились на уровне 18,5 млрд. долларов, в секторе информационных и прочих услуг – 26,7 млрд. долларов.400
Сложность и многообразие отношений США и Китая требует их рассмотрения через комплекс различных подходов и методов. Однако в контексте заявления Дж. Ная о невозможности конфликта между КНР и США при условии упрочнения «мягкой силы» обеими сторонами401 мы, исходя из приведенных выше примеров болезненных точек соприкосновения двух мировых держав, не можем полностью согласиться с американским политологом. Усиление «мягкой силы» отражает, прежде всего, экономический рост государства, сопряженный с его способностью производить материальные блага на экспорт. Укрупнение возможностей одного экономического актора в рамках мирового рынка неизбежно сталкивает его с другими, и подобная борьба не всегда принимает форму противостояния «мягких сил». XXI век обозначил смену парадигмы в американско-китайских отношениях во многом благодаря новому циклу развития экономической и технологической отраслей Китая. Период президентства Д.Трампа уже ознаменовался рядом явно протекционистских мер402 по отношению к американской экономике, что иллюстрирует обеспокоенность США собственным экономическим положением403 и определяет наличие напряженности в отношениях с КНР. Противостояние с Китаем будет идти по каналам как «мягкой», так и «жесткой» силы.
Дж. Най полагает также, что в своем опыте реализации «мягкой силы» китайским политикам не стоит копировать американскую модель. По его мнению, модернизация китайской экономики определила новые возможности для многих жителей Китая, а выдвинутая политбюро ЦК КПК XVII созыва идея о необходимости роста государственной «мягкой силы» показывает внимание, с которым китайское руководство относится к разработанной им концепции. С этим утверждением стоит скорее согласиться: национальные особенности Китая оказывают значительное влияние как на его экономику (демографическая ситуация, определяющая и исторически определявшая масштабный рынок рабочей силы; ресурсная база, располагающая к массовому производству дешевых материальных благ; исторический опыт реформ конца 1970-х гг., который принес КНР политический авторитет в регионе и в мире), так и на культуру (религиозные, нравственные, эстетические особенности, определяющие характер и образ мысли творцов китайской культуры – как «высокой», так и массовой). В одной из своих программных работ Най признавал способность экономической концепции (при условии наличия исторического опыта ее успешной реализации) быть привлекательным образцом для подражания среди стран, желающих повторить успех реформ, заданных концепцией развития404.
Опыт Китая в развитии собственного ресурса «мягкой силы» и перспектив ее реализации подвергается осмыслению и в российской исследовательской среде. Так, например, А.В. Бояркина в своей статье «Язык и культура Китая как эффективные инструменты «мягкой силы» в реализации внешней политики КНР» отмечает ряд преобразований, инициированных китайским правительством в целом и китайским министерством образования, которые, в частности, были направлены на популяризацию изучения китайского языка как внутри самого Китая, так и во множестве зарубежных стран. Как отмечает автор, в 2008 г. китайский язык преподавался в 3500 высших учебных заведениях различных стран мира, также в мире функционируют 440 институтов Конфуция, они открыты в 120 странах405. Немаловажную роль играет и количество иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях КНР: по стоянию на 2008 г. их число превысило 200 тыс. человек406, по состоянию на 2012 г. таковых насчитывалось уже 328 тыс407. Статистика указывает на то, что в большинстве иностранные студенты являются выходцами из региональных соседей КНР – Японии и Южной Кореи. В этом смысле скорее следует говорить о региональном уровне влияния культурно-лингвистического аспекта китайской «мягкой силы». Но в то же самое время увеличение доли африканской молодежи среди всей иностранной диаспоры студенчества в Китае408 уже дает повод говорить о вполне глобальных перспективах данного процесса. Китайское правительство рассматривает распространение практики изучения китайского языка и культуры по всему миру как часть научной концепции «китайской глобализации», создания «могущественного культурного государства» внутри «гармоничного мира»409. Изучение языка, культурных особенностей и традиций Китая способно проложить путь к пониманию продуктов как «высокой», так и массовой культуры Китая. Конечно, в сравнении с возможностями и привлекательностью американской популярной культуры и актуальностью предлагаемых ею моделей поведения китайский аналог находится в менее выигрышном положении. Но КНР располагает огромным экономическим потенциалом для производства и распространения продуктов массовой культуры, что определяет возможность государства навязать борьбу США как в экономическом, так и в культурном аспекте реализации «мягкой силы».
В XXI в. китайское руководство уделяет значительное внимание и внешнеполитическому аспекту «мягкой силы». КНР является влиятельным членом различных международных организаций, активно проявляет себя в роли постоянного члена Совета безопасности ООН. Дипломатия государства ориентирована на многоуровневое взаимодействие не только с соседями по региону, но и с другими государствами. Показательным примером является процесс взаимодействие Китая с африканскими странами. КНР активно сотрудничает как с наиболее перспективными с точки зрения мировой политики и экономики акторами, являющимися лидерами в регионе (ЮАР, Нигерия), так и с рядовыми африканскими государствами (Танзания, Мали).
Особенно значимую роль в развитии африканского направления играет форум китайско-африканского сотрудничества («Китай – Африка»). Он проводился в 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 гг. В рамках форума, проведенного в 2009 г. в Шарм-эль-Шейхе премьер Государственного совета КНР Вэнь Цзябао озвучил меры по содействию китайско-африканскому сотрудничеству, которые охватывали 8 отраслей: экологию, сельское хозяйство, науку и технику, образование, культуру, финансы, здравоохранение и вопрос беспроцентных пошлин410. Экономический аспект этого сотрудничества связан с потребностью Китая в стабильно пополняющихся сырьевых ресурсах, в том числе, нефти. Отсюда и инвестиции Китая в те отрасли промышленности, которые отвечают за добычу данных ресурсов. В своей совместной статье «Трансформация стратегии «мягкой силы» КНР в современных условиях» российские исследователи В.С. Ким и Я.А. Бохан отмечают высокую значимость инвестиций и миротворческой деятельности в рамках ООН для современной «мягкой силы» Китая. Авторы сопоставляют условия предоставления инвестиций со стороны Китая и со стороны стран Запада: инвестициям вторых неизбежно предшествует требование признания прав человека, Китай же не указывает своим потенциальным партнерам на подобную необходимость. Но КНР выдвигает альтернативное требование: признание «одного Китая» и разрыв дипломатических отношений с Тайванем как «неотъемлемой частью» суверенной территории КНР411. На подобном примере мы можем отметить сочетание в рамках внешней политики КНР методов «мягкой силы» и жесткого экономического давления на Тайвань. Подобная сочетаемость методов у Дж. Ная получила наименование «умная сила»412.
Российские исследователи уделяют внимание и миротворческой, а также гуманитарной деятельности Китая, отмечая высокое количество отправленных в различные нестабильные регионы планеты под флагом ООН миротворцев, по которому среди постоянных членов Совбеза ООН КНР уступает лишь Франции413. Также отмечается и гуманитарная деятельность Китая, проявляющаяся через распространение китайской медицины по всему миру: более 15 тыс. врачей были отправлены в более чем 47 африканских стран и оказали помощь примерно 180 миллионам пациентов414. Таким образом, можно отметить глобальный характер опыта КНР по реализации концепции «мягкой силы», в том числе стремление Китая экономически и политически сотрудничать не только с крупными акторами, способными влиять на политику в регионах, но и с рядовыми странами.
В ходе подходящего к концу второго десятилетия XXI в. очевидно отсутствие радикальных перемен в политическом курсе КНР, а значит и концепция «мягкой силы» почти наверняка не исчезнет из китайского политического арсенала. Однако обращает на себя внимание все еще существующая неравномерность китайского ресурса и возможностей для различных аспектов данной политической концепции. Культурный аспект «мягкой силы» КНР видится не столь значимым и могущественным как политический и экономический. Действительно, с точки зрения экономического потенциала для массовой реализации поп-культурных продуктов Китай является едва ли не главенствующим актором на планете. Однако текущий курс культурной политики, ориентированный на лингвистический аспект культуры и предполагающий, в большей степени, экспансию более традиционных форм выражения китайской культуры не в полной мере удовлетворяет потенциальному массовому запросу, ориентированному на поп-культурный, медийный продукт. В то же самое время стоит отметить повышение привлекательности китайского образования в глазах зарубежных студентов, выход популярности китайского образования за пределы Юго-восточной Азии. Развитие экономического и политического аспектов «мягкой силы» КНР видится более продуманным и обладающим большими перспективами для того сценария мировой политики, в котором видит свое будущее Китай.
Библиография:1. Анохина Е.С. Иностранные студенты в Китае и проблемы регулирования их пребывания в стране // Вестник Томского государственного университета. История. 2015. № 1 (33).
2. Бояркина А.В. Язык и культура Китая как эффективные инструменты «мягкой силы» в реализации внешней политики КНР // Теория и практика общественного развития. 2014. № 12.
3. Внешнеторговая политика США: призывы Трампа к сокращению импорта неизбежно приводят к росту противоречий с КНР и Южной Кореей / Портал inosmi.ru [Электронный ресурс] URL: https://inosmi.ru/economic/20180125/241280924.html (дата обращения 02.03.2018)
4. Ким В.С., Бохан Я.А. Трансформация стратегии «мягкой силы» КНР в современных условиях // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. №12 (266)
5. Китай призвал США воздержаться от чрезмерного протекционизма в торговле (02.03.2018) / Новостной портал ria.ru // [Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/world/20180302/1515599088.html (дата обращения 03.03.2018)
6. Ланьшина Т.А. Роль США в развитии национальной инновационной системы Китая // США – Канада. Экономика, политика, культура. 2014. № 8.
7. Макроэкономические исследования; ВВП Китая (1970-2016) // [Электронный ресурс] URL: http://be5.biz/makroekonomika/gdp/cn.html#p_per (дата обращения 01.03.2018).
8. Мокрецкий А.Ч. Современные китайско-африканские отношения: ускорение развития // Китай в мировой политике. История и современность. 2010.
9. Най Дж. Мягкая сила Китая в китайской мечте (21.12.2013) / Портал inosmi.ru [Электронный ресурс] URL: https://inosmi.ru/world/20131221/215796739.html (дата обращения 01.03.2018).
10. Нобелевская премия по литературе – у китайца Мо Яня (11.10.2012) / Портал inosmi.ru [Электронный ресурс] URL: https://inosmi.ru/world/20121011/200775228.html (дата обращения 01.03.2018).
11. Chinese Soft Power and It's Implications for the United States. Competition and Cooperation in the Developing World / ed. C.McGiffert. CSIS. March 2009.
12. Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs Group, 2004.
13. USITC. China: Effects of Intellectual Property Infringement and Indigenous Innovation Policies on the U.S. Economy, no. 332-519, USITC Publication 4226 2011. May. Р. 19 [Электронный ресурс] URL: https://www.usitc.gov/publications/332/pub4226.pdf (дата обращения 02.03.2018)
Творческое наследие Юлиуса Эволы в контексте истории идей
Терентьев Ю.А.,магистрант кафедры новой и новейшей истории МПГУАннотация: в работе рассматривается ключевые идеи и понятия итальянского философа–традиционалиста Ю. Эволы (1898-1974). Автор анализирует ключевые концепты, характеризующие воззрения Эволы в контексте истории идей, в том числе связанных с кризисом парадигмы индустриализма в европейском обществе первой трети ХХ века.
Ключевые слова: традиция, история идей, мыслитель, пространство, проблема.
Творческое наследие итальянского интеллектуала Юлиуса Эволы (1898-1974) является одной из вершин европейской традиционалистской мысли XX века. Его духовные искания и творчество происходили на фоне самых драматичных событий Новейшей истории, когда определялся путь цивилизационного развития западного общества. «Мир Традиции» в трудах Эволы представлялся оплотом чистого и высокого аристократического «духа», который противопоставлялся ценностной деградации современной автору эпохи.
Эвола являлся одним из представителей целой плеяды европейских мыслителей, пытавшихся осмыслить «закат Европы». Эти умонастроения отразили не только трагические последствия мировой войны, но и болезненную реакцию на становление совершенно нового общества, подчиненного рационализму и утилитарности, разрывающего привычные социальные связи и деформирующего ценностное пространство. «Можно ли жить в мире, лишенном высшего смысла и веры, предстающем внечеловеческой реальностью, не имеющей ничего общего с нашими желаниями и нашим разумом?» – этот вопрос стал лейтмотивом мировоззренческих исканий представителей самых разных философских направлений и течений общественно-политической мысли415. Для самого Эволы особенно ценным представлялся опыт нравственной рефлексии Рене Генона (1886-1951). Именно знакомство с этим французским философом вызвало к жизни в итальянском мыслителе стремление к обретению «смысла», дало толчок для оригинального осмысления «мира Традиции». Эвола напрямую связывал специфику свой концепции именно с идеями Генона («Сразу оговоримся, что мы используем здесь слово Традиция в совершенно определённом значении, далеком от общепринятого и близком к тем категориям, которые использовал Рене Генон в своем анализе кризиса современного мира, – отмечал Эвола в своей работе «Оседлать тигра». – В этом особом значении культура, или общество, является “традиционным”, если оно руководствуется принципами, превосходящими просто человеческий и индивидуальный уровень; если все его сферы образованы влиянием свыше, подчинены этому влиянию и ориентированы на высший мир»416). Впрочем, стоит отметить и тот факт, что впоследствии такое непосредственное влияние самим же Эволой отрицалось, а «учитель» был подвержен весьма острой критике в ряде работ своего «ученика».
Эвола рассматривал традицию в интегральном смысле как «категорию, принадлежащую к почти забытому времени тех эпох, в которых единственная, оформляющая, коренящаяся в метафизическом сила проявляется в обычаях, культе, в правопорядке, в мифе, в искусстве, в мировоззрении – в каждой области существования»417. В своей работе 1934 г. «Восстание против современного мира» он формулирует свое мнение по поводу «мира традиции» следующим образом: «Для понимания как традиционного духа, так и современного мира, каковой является отрицанием этого духа, необходимо начать со следующего основополагающего пункта – доктрины двух природ. Существует физический порядок и порядок метафизический. Существует смертная природа и природа бессмертных. Существует высший регион “бытия”, и низший – “становления”. Обобщая, можно сказать, что существует зримый и осязаемый мир, но прежде, по ту сторону его существует незримое и неосязаемое, то есть сверхмир, принцип и истинная жизнь»418. Эвола подчеркивал, что эта ключевая черта традиционного, то есть некое «знание, которое было подобно несокрушимой оси, вокруг которой выстраивалось все остальное», столетиями присутствовало и на Востоке, и на Западе, формируя культурный фундамент этих обществ. Наступающая же эпоха впервые за длительный период истории противопоставляет не Восток и Запад, а «мир традиции» и «мир современности».
Выбор Эволы между этими двумя мирами был совершенно недвусмысленным. Так, например, направленность одной из своих ключевых работ «Оседлать тигра» итальянский философ характеризовал так: «Целью настоящей книги является изучение отдельных аспектов современности, благодаря которым она выглядит преимущественно эпохой разложения. Одновременно с этим мы намерены рассмотреть проблему поведения и форм существования, которые в нынешней ситуации подобают особому типу человека»419. Причем, под «особым типом человека», который и стал основным героем его произведений, Эвола подразумевал не приверженца «старого мира», упорно хранящего верность консервативным канонам, а «человека, который, несмотря на свою полную вовлеченность в мир, включая даже те его области, где современная жизнь достигает наивысшего уровня проблематичности и остроты, внутренне не принадлежит этому миру, не намерен ему уступать и в душе чувствует себя существом иной породы, отличной от большинства наших современников»420. Таким образом, в центре творческих интересов Эволы находилась сложная драматургия духа, порожденная цивилизационным расколом, трансформация нравственного строя человека в этих сложных культурно-исторических условиях.
Пытаясь объяснить истоки и причины разворачивающейся исторической драмы, Эвола выдвигает теорию регрессии кастового (сословного) строя, сопряженной с «угасанием» архаического типа «героя», «царя» и гендерного типа «мужчины» как главного носителя «традиции», ее квинтэссенции. В работе «Восстание против современного мира» он пишет: «Опыт традиционного человека, сегодня сохранившийся как пережиток у некоторых так называемых “примитивных” народов, выходил далеко за рамки этих границ. “Незримое” было для них столь же и даже более реально, чем данные физических органов чувств. Кроме того, оно обусловливало и сам образ жизни как индивида, так и коллектива»421.
Эвола не считал свои взгляды проявлением консерватизма. Он вполне четко противопоставлял концепт «мир традиции» распространенным в Европе представлениям о «традиции» как о «старом порядке», основанном на преемственности социальных институтов и обычаев. Для разграничения понятий «мир традиции» и «традиции общества» Эвола приводил пример современной социальной трансформации, в рамках которой «старым порядком» уже оказывается буржуазным мир XIX столетия: «Первым делом следует прояснить следующий важный момент, связанный с вопросом об отношении к “пережиткам” или “остаткам” старого мира. Так, в частности в Западной Европе, продолжают цепляться за жизнь различные социальные институты, нравы и обычаи, принадлежащие вчерашнему, то есть буржуазному миру. Необходимо четко уяснить себе, что сегодня, говоря о кризисе, в большинстве случаев имеют в виду кризис буржуазного мира – именно основы буржуазной культуры и общества претерпевают сегодня кризис и разложение. Но буржуазный мир – это не тот мир, который мы назвали миром Традиции»422. Тем самым, Эвола предлагал концепцию, которая совершенно не вписывалась в дихотомию «консерватизм – либерализм» или «традиционализм – прогрессизм». Он описывал кризис, который в равной степени отделяет современного человека от любой Традиции – будь то «Старый порядок» христианской цивилизации или новоевропейская прогрессистская традиция: «Социальный, политический и культурный распад переживает система, сформировавшаяся со времен победы третьего сословия и первой промышленной революции, тогда как еще сохраняющиеся в ней остатки более древнего строя давно утратили свое изначальное живое содержание»423. Это совершенно новое состояние общества, по мысли Эволы, и создает уникальную возможность для формирования «особого типа человека», вполне интегрированного в современную реальность, но обладающего при этом экзистенциальной глубиной собственного бытия.
Показательно, что и свою личность Юлиус Эвола связывал с образом «воина традиции», «воина духа», уточняя: «Война предоставляет человеку возможность пробудить героя, спящего внутри него. Война взрывает рутину комфортабельной жизни и при помощи суровых испытаний предлагает преображающее знание жизни, жизни со смертью. Момент, в который индивид становится героем, даже если это последний момент его земной жизни, своим значением бесконечно перевешивает затянувшееся существование, проводимое в монотонном потреблении среди серости городов»424. Отсюда и претенциозность его видения той «экзистенциальной ситуации», в которой оказалось западное общество. А его дальнейший уход в полнейшую «аполитейю» по примеру немецкого мыслителя Эрнста Юнгера, можно охарактеризовать как апофеоз нонконформистских устремлений. Эвола выступал в качестве критика состояния современной философской и политической мысли Западной Европы и считал, что наблюдавшийся «разрыв» материальной и духовной сферы общества и все более очевидное превалирование материальной составляющей человеческих отношений не могут не отразиться на нравственном развитии человека. Для выхода из «сумеречной зоны» итальянский мыслитель предлагал обратиться к опыту имперского языческого универсума как образцу той традиции, которая способна «вдохнуть» жизнь в европейского человека, в его интеллектуальную и материальную реальность. Интеллектуальное наследие Юлиуса Эволы является ценным источником по истории идей, связанных с осмыслением возможной альтернативы развития общества на основе возрождения органической культуры «мира традиции» в условиях синкретической социальной реальности.
Библиография:1. Сидоркина Т.Ю. Парадоксы кризисного сознания. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2002.
2. Эвола Ю. Восстание против современного мира. М.: Прометей, 2016. С. 6.
3. Эвола Ю. Метафизика войны. Тамбов: Общество «Плюс», 2008. С. 9.
4. Эвола Ю. Оседлать тигра. М.: Издательство «Владимир Далъ», 2005. С. 6.
5. Юдин К.А. Традиционализм барона Юлиуса Эволы: об идейных истоках консервативного революционера // Философские науки. 2014. № 7.
«Под пристальным вниманием»: модели коммуникации неправящих династий и общества
Черемухин В.В.,магистрант кафедры новой и новейшей истории МПГУАннотация: автор рассматривает существование низложенных монархий как предмет коммуникативного дискурса, широко представленного в современных социальных сетях и СМИ. Монархии, которые исчезли в прошлом и не могут рассматриваться как форма правления в соответствующих странах, сохраняют особое место в исторической памяти и культурном пространстве. В статье показывается специфика моделей коммуникации между неправящими династиями и обществом.
Ключевые слова: коммуникативное пространство, коммуникативный дискурс, монархия, «корона без трона», модели коммуникации.
ХХ век ассоциируется у исследователей и обывателей как период самых радикальных социальных трансформаций, революционных переворотов, масштабных преобразований во всех сферах общественной жизни. От узконационального и династического к глобальному и межнациональному – таков путь государств мира в ХХ веке. Неизбежным следствием этих изменений была перестройка политико-правового пространства, обновление форм государственности. В полной мере этот процесс коснулся и института монархии.
Системный кризис монархизма стал очевиден уже после окончания Первой мировой войны, когда под влиянием внешних и внутренних факторов были разрушены огромные империи в Европе и Азии. Распад империй сопровождался революционными переворотами или даже распадом этих некогда мощных государств. Лишь в некоторых случаях смена формы правления сопровождалась легитимной процедурой абдикации (отречения) правящих монархов. Февральская революция в России с вынужденным отрицанием Николая II, Ноябрьская революция в Германии и бегство из страны императора Вильгельма II425, добровольный отказ (но не отречение) от власти последнего австро-венгерского императора Карла I в ноябре 1918 г., а так же внутренние военные потрясения, которые привели к свержению династии Османов и установлению Турецкой республики во главе с К. Ататюрком – таков итог Первой мировой войны.



