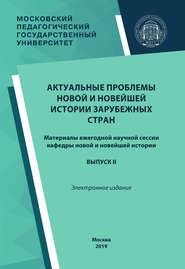 Полная версия
Полная версияАктуальные проблемы новой и новейшей истории зарубежных стран. Выпуск II
К непродуктивным суффиксам относятся слова, образованные при помощи суффиксов –ис, -есс, -их, -ш, и добавления -ь. Феминитивы, образованные при помощи суффикса –ис- принято считать уничижительными. Самым распространённым феминитивом является слово «директриса», используемое в школьной среде и имеющее негативный характер. При помощи суффикса –есс можно наоборот образовать феминитив возвышенного характера. Яркими примерами являются слова «поэтесса», «баронесса», «патронесса» и «принцесса». С давних лет суффикс –их имеет негативный характер и обозначает принадлежность женщины мужу по профессии (ткач-ткачиха, повар-повариха). В современном русском языке он приобрел ярко выраженную негативную стилистическую окраску, поэтому не употребляется в феминистских неологизмах362. Еще один устарелый способ образования феминитивов является суффикс –ш. Слова, образованные данным способом также имеют негативный характер и означают принадлежность женщины у профессии мужа (библиотекарша, великанша). Способом образования феминитивов является и нейтрально-стилистический аффикс –ь- (лгун – лгунья, врун – врунья, ворчун – ворчунья).
Столь сильное разнообразие способов словообразования феминитивов не является удивительным. Причина этому – любая ущемляемая в правах группа (раса, пол, сексуальная ориентация, класс) подходила к вопросу о своих правах со всех сторон, и в том числе и с лингвистической. Если члены какой-либо группы, ранее испытывавшей притеснение членами общества, не могут думать и говорить на общепринятом, равном для всех языке, то это является признаком сохранившегося дисбаланса. Именно поэтому часть феминисток обеспокоены тем обстоятельством, что в русском языке наличие или отсутствие женской формы названий профессий напрямую связано с тем, какую гендерную окраску эти профессии имеют363.
Решение данной проблемы сторонниками гендерного равенства видится двумя способами: либо привести все слова к нейтральной форме (как это сделано в английском языке), либо создать феминитивы, образовать женские формы от «мужских» слов (подобно немецкому языку). Первый способ достаточно сложен для выполнения, так как приведение всех слов к нейтральной форме повлечет за собой масштабную реформу в словообразовании, лингвистике, литературе, образовании. Второй способ более динамичен, легче выполним и не вызывает столь сильной негативной социальной реакции. Однако по словам кандидата филологических наук и доцента школы филологии НИУ ВШЭ Михаила Павловца, «для немецкого языка феминитивы более естественны: суффикс -ин тут совершенно нейтрален и носит во многих случаях обязательный характер, так что госпожу профессора надо называть «Professorin», а учительницу – «Lehrerin»364. Чего нельзя сказать о русском языке, где кроме учительницы есть и «профессорши», и «профессорки».
Исходя из этого получается, что ни один из способов не является идеальным для решения проблемы феминитивов. Но если попытаться убрать все феминитивы из письменной и разговорной речи, вернуться к «мужской» форме слова, провозгласив его нейтральным, общим для всех, то этот вариант окажется не только неприемлемым для представителей феминистского движения, но и крайне сомнительным с точки зрения закрепления равных прав женщин на позиционирование себя в обществе. Следует учесть, что язык – структура вполне подвижная и живая, а потому вполне вероятно, что через какое-то время феминитивы перестанут резать слух и даже прочно войдут в обиход, как это уже случалось раньше. Пока же можно согласиться с мнением Анны Дыбо, доктора филологических наук, лингвиста, член-корреспондента РАН: «Феминитив в русском языке неправильно употреблять в случае неопределённости по полу; кроме того, разрешают употреблять названия мужского рода по отношению к лицам женского пола и неуверенно цитируют великих насчёт пейоративности. Значит, феминитивы употреблять не запрещено грамматикой по отношению к лицам женского пола и не одобрено по отношению к лицам мужского пола»365.
В настоящее время дискуссии о необходимости феминитивов становятся все более актуальными. В социальных сетях группы, посвященные феминизму, нередко открывают отдельные «обсуждения», посвященные феминитивом366 367. Однако есть и такие представители женского рода, которые не считают дискуссию о феминитивах нужной. Так, кандидат филологических наук О.В. Зуева пишет: «Обсуждение проблемы феминитивов в том виде, в каком оно представлено в СМИ, – это погружение в бессмысленные диспуты… Мне как лингвисту (не лингвистке!), изучающему историю русского языка, явление видится малоинтересным, так как за ним пока что стоят не действительные изменения в языке, а отдельные факты речи»368.
Столетия тому назад каждый пол имел четкие и преемственные социокультурные роли, которые были недвусмысленно закреплены в семантическом пространстве. Сейчас жизнь изменилась довольно сильно, и это разделение осталось в прошлом. Люди столкнулись с необходимостью ведения новых инструментов обозначения гендерной принадлежности объекта, о котором идет речь. Важно при этом уметь передать характеристику адекватным, нейтральным образом, не прибегая к уничижительным, насмешливым суффиксам. Обеспечение равного положения женщины наравне с мужчиной предполагает не только соразмерную заработную плату и возможность трудоустройства, но и правильную социальную терминологию, подразумевающую уважительное отношение, признание возможностей человека вне зависимости от гендерной принадлежности. Феминитивы – это неологизмы, по крайней мере на текущем моменте развития языка. Многие лингвисты, а также специалисты по социальному развитию предполагают, что вскоре такие слова станут нормативными, привычными для широких масс, употребительными в самых разных ситуациях. Важно сформировать их с учетом языковой логики, в соответствии с моделями словообразования, характерными русскому языку, и тогда результат будет действительно хорошим – это даст полезные слова, за счет которых язык станет «гендерно чувствительным»369.
Важно также отметь, что проблема равноправия мужчин и женщин, ущемления прав какой-либо социальной группы решается не аффиксами. Требуются изменения правового поля, информационного контекста, сознания людей. Искусственное добавление или ликвидация букв не решит проблемы гендерной асимметрии. Ведь все более актуальным ставится и обратный вопрос: где мужские формы слов «сиделка», «швея», «прачка»?
Библиография:1. Алексеева А. Феминитивы: за или против. [Электронный ресурс]. URL: https://umnaja.ru/feminitivy-za-i-protiv/ (дата обращения: 04.03.2018)
2. Баданина И.В. Функционирование феминативов в языке интернета // Русский язык в интернете: личность, общество, коммуникация, культура: сборник статей I Международной научно-практической конференции. Под ред. А.В. Должиковой. М., РУДН, 2017.
3. Балагурова Н. Феминитивы [Электронный ресурс]. URL: http://fb.ru/article/355533/feminitivyi–eto-slova-jenskogo-roda-alternativnyie-ili-parnyie-analogichnyim-ponyatiyam-mujskogo-roda (дата обращения: 04.03.2018)
4. Дьяков А.И. Словарь англицизмов русского языка. Dictionary of Anglicisms of the Russian Language. [Электронный ресурс]. URL: http://anglicismdictionary.dishman.ru/F (дата обращения: 04.03.2018).
5. Лешкова О.О. Новые явления в категории феминативов (на материале современного польского языка) // Язык. Сознание Коммуникация. Вып. 55. М.: МАКС Пресс, 2017.
6. Мазикина Л. 11 фактов о видимых феминитивах в русском языке [Электронный ресурс]. URL: https://pics.ru/11-faktov-o-vidimyh-feminitivah-v-russkom-yazyke (дата обращения: 04.03.2018)
7. Перова А. Автор vs Авторка. Почему для феминитивов не настало время [Электронный ресурс]. URL: http://5k.kyky.org/places/avtor-vs-avtorka-pochemu-dlya-feminitivov-ne-nastalo-vremya (дата обращения: 04.03.2018)
8. Пророкова М. Психология свободы: Насколько «авторка» и другие феминитивы вписываются в правила русского языка? [Электронный ресурс]. URL: http://www.furfur.me/furfur/freedom/howitworks/217475-feminitivy (дата обращения: 04.03.2018)
9. Феминизм: наглядно / Обсуждения / Социальная сеть «Вконтакте» [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/topic-154213818_36749976 (дата обращения: 04.03.2018)
10. Феминитивы в современном русском языке. [Электронный ресурс]. URL: http://virgoclub.ru/feminitivy-v-sovremennom-russkom-yazyke.html (дата обращения: 04.03.2018)
11. Body Positive. Бодипозитив / Социальная сеть «Вконтакте» [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-57529824_41692 (дата обращения: 04.03.2018)
У истоков христианской демократии: Лев XIII и становление социального католицизма
Макарова А.И.магистрант кафедры новой и новейшей истории МПГУАннотация: в статье ставится проблема смены приоритетов социальной политики Святого Престола в период понтификата Папы Льва XIII. Автор показывает политический контекст становления нового социального учения католической церкви и рассматривает ключевые идеологические концепты, с помощью которых Лев XIII аргументировал обновленческий курс. В этом ряду рассматривается и становление идеи «христианской демократии».
Ключевые слова: христианство, Католическая церковь, Лев XIII, христианская демократия, социальный католицизм.
Христианская демократия – это автономное от церкви политическое движение, выступающее за решение социальных и экономических проблем на основе христианских принципов. Хронологически история движения христианской демократии состоит из трех этапов: «конфессиональный», «неконфессиональный» и «народный». Конфессиональный период движения христианской демократии связан с зарождением самой идеи христианской демократии в русле формирующегося на рубеже XIX-XX вв. социального учения Католической церкви.
Католическая церковь потеряла значительную часть своего влияния в результате череды буржуазных революций, разрушивших сословную структуру общества, а, главное, под влиянием процесса секуляризации, отразившемся и на массовом сознании, и на политической и правовой культуре европейского общества, и самых разнообразных «структурах повседневности». Лозунги антиклерикализма стали характерной чертой многих политических движений, а идеи республиканизма и конституционализма прочно вошли в «повестку дня». Отчаянные попытки Святого престола бороться с распространением модернизма во всех проявлениях завершились с понтификатом Папы Пия IX. Преемник Пия IX Папа Лев XIII решительно взял курс на обновление и догматических ориентиров католицизма (именно его усилия привели к провозглашению томизма официальным учением Католической церкви370), и на формирование «социального учения» Церкви как программы, которая отражает позицию Святого престола в вопросах сугубо светских, имеющих политическое значение, но рассматриваемых с точки зрения христианских мировоззренческих принципов и духовных ценностей. Это учение в последствии получило название социального католицизма. Именно в его русле и возникла идея христианской демократии.
Ключевое значение для формирования политического компонента раннего социального католицизма имела энциклика Льва XIII «Libertas praestantissimum» (1888 г.), в которой понтифик осудил антиклерикальный либерализм, но выразив при этом свое одобрение идее либерализма в целом и демократическим институтам, таким как гражданское общество.
Высказываясь о свободе как одной из важнейших потребностей человека, Лев XIII подчеркивал, что «состояние человеческой свободы таково, что она необходимым образом нуждается в свете и силе, направляющих её действия ко благу и удерживающих их от зла. Без этого свобода нашей воли была бы нам погибелью»371. Силой этой является закон, который ограничивает нашу свободу определенными рамками. А лучший и естественнейший из всех законов – Закон Божий: «…закон природы – то же, что и вечный закон, вживленный в разумные существа и склоняющий их к надлежащим действиям и целям, и он не может быть ничем иным, как вечным разумом Бога, Творца и Правителя всего мира»372. Альтернативное понимание свободы, по мысли Льва XIII, ведет к вседозволенности, разрушает человеческую личность и общество: «Стоит лишь приписать человеческому разуму единственную власть решать, что истинно и что благо – и уничтожается подлинное различие между добром и злом, честь и бесчестие различаются не по природе, а по мнению и суждению каждого, удовольствие делается мерой законности, а учитывая кодекс морали, почти или вовсе не имеющий никакой силы сдерживать или утихомиривать буйные склонности человека, естественным образом открывается путь ко всеобщему развращению»373. Далее в энциклике эта мысль получает продолжение: «Отрицать верховную власть Бога и отбрасывать всякое послушание Ему в общественных делах, или даже в частных и семейных – величайшее извращение свободы и худший род либерализма; лишь к этому в полном смысле относится сказанное Нами»374.
Прослеживаются в энциклике «Libertas praestantissimum» и другие контуры обновленной политической программы Святого престола: «Церковь с подлинной материнской проницательностью взвешивает великое бремя человеческой слабости и хорошо знает то русло, по которому течение нашего века несет умы и действия людей. По этой причине, не допуская никакого права ни за чем, что не правдиво и не честно, Она не запрещает общественным властям терпеть то, что расходится с истиной и справедливостью ради избежания некого большего зла или ради обретения или сохранения большего блага»375. На наш взгляд, это наиболее важный постулат из сформулированных в документе. С одной стороны, Церковь подтверждает свое идеологическое превосходство надо всеми другими учениями, но с другой, подтверждает свой отход от светской составляющей папской власти.
Идеи социального католицизма получили развитие в другой энциклика Льва XIII, вызвавшей наибольший общественный резонанс и ставшей со временем символом обновленческого курса Церкви – «Rerum novarum» (1891 г.). Это послание было посвящено «рабочему вопросу», остро стоявшему в то время во всех государствах Европы, включило в себя и ряд более широких по смыслу положений.
В «Rerum Novarum» с одной стороны окончательно закреплялся нейтралитет Церкви в политическом поле и отход от требований для Церкви светской власти, но с другой – много внимания уделялось социальным вопросам и созданию для осуществления этой помощи «Католических союзов» («Catholic association»)376. Церковь также осудила марксизм, впрочем, ни разу не упомянув его прямо – лишь заявляя о неприемлемости социализма, учения о классовой борьбе и материализма. Лев XIII подчеркивал, что, в отличие от социалистов, Церковь не признает людей равными («Между людьми естественно существуют бесчисленные различия, и весьма глубокие; люди отличаются друг от друга способностями, прилежанием, здоровьем, силою, а из неравенства этого неизбежно вытекает неравенство в образе жизни»377), но это является причиной для утверждения не эгалитаризма, а патернализма и солидарности – сильные должны помогать слабым, а слабые помогать сильным. Отсюда, по мнению Льва XIII, следует необходимость признать полную абсурдность идеи классовой борьбы. «Огромная ошибка в отношении рассматриваемого вопроса, – писал понтифик, – состоит в убеждении, что классы изначально враждебны друг другу, и что богачи и бедняки по самой природе своей должны конфликтовать. Эта идея настолько иррациональна и ложна, что истиной является абсолютно противоположное утверждение. …Классы в равной степени нуждаются друг в друге: капиталисты не могут существовать без рабочих, но и рабочие не могут без капиталистов»378. И не существует более мощного связующего звена между классами, чем Церковь, которая способна и обязана напоминать каждому из них об их обязанностях по отношению друг к другу. Иначе говоря, противоположные классы – рабочие и капиталисты – должны работать вместе для достижения всеобщего блага, а регулировать их взаимоотношения должна Церковь, как наиболее подходящий для этого институт.
Идеи, высказанные в «Rerum novarum», получили развитие в изданной спустя десятилетние энциклике Льва XIII «Graves de Communi Re». Именно этот документ впервые содержал словосочетание «Christian Democracy»379. Христианской демократией в энциклике называются общественные организации, такие как бюро образования, сельские банки для кредитования мелких фермеров и даже профсоюзы, общественная (публичная) деятельность которых сопряжена с реализацией христианских принципов.
Показательны, в первую очередь, теологические обоснования христианской демократии, которые сформулированы в энциклике «Graves de Communi Re». Лев XIII уповает на христианскую любовь, ссылаясь на Евангелие от Иоанна: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою»380. Через христианскую любовь Лев XIII подходит к милосердию: «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто»381. Милосердие, как указывает Папа, отвергается социалистами, на что он возражает: « Никто не настолько богат, чтобы отказаться от чьей-то помощи; никто не настолько беден, чтобы не быть полезным ближнему своему»382.
Папа также указывает на существование идеи христианского братства и единения через Послание к Ефесянам: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас»383. Через этот постулат Лев XIII призывает всех – в том числе и элиты – объединиться с целью улучшения всеобщего благосостояния. К элитам Лев XIII обращается прямо: «Особенно необходимо призвать к добродетельному содействию тех, чей статус, богатство и ум или же духовная культура дают им определенное положение в обществе. Если их помощь не будет распространена, маловероятно, что удастся сделать что-то для повышения благосостояния людей»384.
Следует также отметить, что хотя Папе и не столько важно, будет ли это движение называться «христианской демократией» или «народное католическое движение»385, но ему крайне важно, чтобы движение это «курировалось» Церковью: «Наконец, мы повторяем снова то что мы уже утвердили, и мы настаиваем на этом наиболее торжественно; а именно, что любые проекты отдельных лиц или союзов в этом вопросе должны формироваться под епископской властью»386. При этом Лев XIII фактически запретил католикам создавать собственные политические партии387.
Обновленческий курс Льва XIII вызвал неоднозначную реакцию в католическом мире. Часть паствы усмотрела в «Rerum Novarum» и «Graves de Communi Re» идеи христианского социализма и приняла их как руководство к действию: началась успешная кампания по организации католических профсоюзов. Эти организации стремительно набирали популярность в западноевропейских странах.388 В 1919 г. они объединились в единую Международную конфедерацию христианских профсоюзов со штабом в Утрехте389. Идеи «Rerum Novarum» и «Graves de Communi Re» нашли отклик и в католическом клире, хотя здесь было немало противников столь резкого обновления политического курса Святого престола. Роль Льва XIII в полном мере была признана уже впоследствии. По утверждению Иоанна Павла II, Лев XIII «дал церкви как бы «статус гражданства» в меняющихся обстоятельствах общественной жизни»390. И следуя именно своему чувству «гражданственности» в отношении церкви, сторонники идеи христианской демократии сумели превратиться в значимую общественно-политическую силу в Европе.
Необходимо отметить, что уже со времен Льва XIII Церковь стремилась не допустить политизации идей христианской демократии. По утверждению Г. Алмонда, в более радикальном варианте эти идеи «становились воинствующими и склонными к корпоратизму»391. Распространение же христианско-демократических идей левого толка вызывало неприятие у существенной части католического среднего класса и предпринимателей392. Призыв Льва XIII к элитам «помогать» был услышан лишь отчасти и воспринят скорее в контексте благотворительной деятельности.
Таким образом, идеи Льва XIII способствовали радикальному обновлению социально-политического курса Католической церкви и дали толчок для формирования совершенно нового направления в деятельности общественных организаций христианского толка. Но сдерживающим фактором выступили не только противоречия в самой католической среде, но и стремления Святого престола рассматривать христианскую демократию только особый тип гражданских инициатив и жестко ограничивать распространение идей христианской демократии в партийно-политической плоскости. Эта ситуация начала меняться лишь в 1920-х гг., а мощной политической силой христианская демократия стала уже после окончания Второй мировой войны.
Библиография:1. Пономарев М.В. Лев XIII и духовные истоки современного социального католицизма // CLIO-SCIENCE: Проблемы истории и междисциплинарного синтеза. Сборник научных трудов. М.: МПГУ, 2011
2. Almond G. A. The Political Ideas of Christian Democracy // The Journal of Politics. 1948. Vol. 10, No. 4. P. 741. [Электронный ресурс] URL: https://www.jstor.org/ stable/2126252?newaccount=true&read-now=1&seq=1#page_scan_tab_contents (дата обращения 04.11.2018).
3. Leo XIII. Encyclica «Graves de Communi Re» (1901). [Электронный ресурс] URL: http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18011901_graves-de-communi-re.html [дата обращения 04.11.2018].
4. Leo XIII. Encyclica «Libertas praestantissimum» (1888). [Электронный ресурс] URL: http://unavoce.ru/library/libertas.html (дата обращения: 13.02.2018).
5. Leo XIII. Encyclica «Rerum novarum» (1891) [Электронный ресурс] URL: http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/en/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html [дата обращения 04.11.2018].
6. Компендиум социального учения церкви. М.: Паолине, 2006. С. 71.
Современные перспективы и возможные ограничения «мягкой силы» КНР в ее политическом, экономическом и культурном аспектах
Очереднюк О.Ю.,магистрант кафедры новой и новейшей истории МПГУАннотация: в статье анализируется современные особенности развития ресурса «мягкой силы» Китайской Народной Республики, перспективы реализации данной политической концепции китайским правительством через ее экономическое, политическое и культурное содержание. Автор учитывает совокупность историко-экономических факторов, оказавших влияние на формирование существующих ныне особенностей развития китайской «мягкой силы» в ее ключевых аспектах, на основании которых возможна оценка функционирования данной политической концепции.
Ключевые слова: «мягкая сила», Китай, культура, политические ценности, дипломатия, экономика, перспективы развития.
По состоянию на почти истекшее второе десятилетие XXI в. мы можем с полной уверенностью назвать Китайскую Народную Республику не только одним из важнейших акторов современной мировой политики, но и чрезвычайно перспективным в своем экономическом развитии государством. Фундамент этого успеха складывался еще в предыдущем столетии.
Конец 1970-х гг. был ознаменован для Китая кардинальными изменениями политического курса. Правительство Дэн Сяопина инициировало процесс, который получит название «политика реформ и открытости». Постепенная интеграция Китая в мировой рынок была сопряжена с его долгим и стабильным экономическим подъемом, который продолжается и по сей день393. В то же время трансформация внешнеполитического курса КНР хронологически не в полной мере соотносилась с экономическими преобразованиями в стране. В этом смысле нам стоит обратить внимание на период с конца первого десятилетия XXI в. и до наших дней – именно он охватывает заявленную в заглавии работы политическую концепцию и то, как ею распоряжается Китай.
Немаловажным в рамках заявленной темы становится заявление самого автора концепции «мягкой силы», попытавшегося в рамках интервью, данного гонконгскому изданию «Вэньхуэйбао», составить собственную характеристику китайской активности в области политики культуры и экономики. Джозеф Най-младший определяет в качестве наиболее действенной составляющей «мягкой силы» Китая именно культуру394. В своих работах Най неизменно подчеркивал значимость двух «платформ» для реализации «мягкой силы» – политики (преимущественно внешней) и культуры. Но именно массовую культуру (в сравнении с т.н. «высокой») Джозеф Най считал приоритетной в работе механизма под названием «мягкая сила»395. Правда, применительно к Китаю Най приводит несколько иные аргументы – от давно существующего в западном обществе интереса к традиционной китайской культуре до примера с получением в 2012 г. Нобелевской премии по литературе китайским писателем Мо Яню396.
В вопросе растущего политического противостояния Китая и США, в том числе и на уровне реализации «мягкой силы», Най придерживается позиции, предполагающей не только соперничество, но и «сотрудничество, кооперацию перед лицом глобального финансового кризиса, глобального изменения климата, в деле профилактики и лечения инфекционных заболеваний, а также в борьбе с террористами»397. Эта позиция видится отчасти справедливой: как показал исторический промежуток последних сорока лет, помимо конкурентной борьбы за политический и культурный авторитет в мире, такие крупные политические акторы как КНР и США способны взаимодействовать для разрешения глобальных проблем, претворения в жизнь стратегически важных проектов. Российский исследователь Т.А. Ланьшина так определяет парадигму развития отношений Китая и США в области науки и технологий: если последняя четверть XX в. характеризуется как «донорство» (США делились с Китаем технологическими находками и методикой маркетинга и организации, Китай в этом свете являлся производственной площадкой, обеспеченной дешевой рабочей силой), то в XXI в. Китай добивается прогресса в рамках уже созданной национальной научно-технической базы, а Соединенные Штаты, как отмечает автор, «оказались в определенной степени зависимы от Китая в научно-технической сфере»398. Т.А. Ланьшина также справедливо иллюстрирует динамику роста численности китайской молодежи, получающей образование в США: если в 2005-2006 гг. американское образование получали всего 62,6 тыс. китайских граждан (11,1% всех иностранных студентов США,), и по экспорту студентов в США Китай занимал второе место после Индии, то в 2011-2012 гг. Китай «экспортировал» в США уже 157,6 тыс. своих студентов (21,8% всего притока иностранных студентов в США)399.



