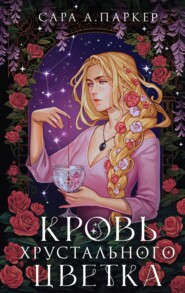скачать книгу бесплатно
Если раньше происходящее не имело никакого смысла, то теперь этого смысла слишком, чтоб его, много.
Неудивительно, что Аравин ее прятала. Неудивительно, что здесь были гребаные Шулаки. Неудивительно, что кулон у меня в кармане так тяжел…
Аравин не стоило брать с меня такой обет. Возложенный в слепой надежде не на те плечи.
Дитя поднимает голову и пытается заговорить, но выходит лишь хрип.
К моему горлу подкатывает тошнота.
Девочка спасла себя от трех свирепых вруков, которые разорвали ее былую жизнь в клочья, – лишь для того, чтобы угодить в объятия еще более свирепой угрозы.
В этой смерти не будет славы. Ни тени чести.
Лишь кровь испуганного ребенка у меня на руках.
Или ей петля в постели, или смерть у вашей двери.
Она смотрит на меня, пытаясь что-то сказать сорванным голосом.
– Все хорошо, – лгу я, обхватывая ее затылок ладонью и прижимая к себе.
Ее щека прижимается к моей груди. Утешение, которое будет лишь временным.
Сделаем все быстро.
Прижимаю кончики пальцев между ребер девочки, чувствую ритм бешено скачущей мишени. Петля теней сгущается, словно ирилаки предвкушают теплое блюдо, что станет к их пиршеству гарниром.
Проклятье.
Шею будто подрубает, лицо утыкается в перепачканные сажей волосы девочки. Взметнувшийся пряно-цветочный аромат захлестывает меня, заставляя зарыться глубже, пока рот не прижимается к свежей ране на голове.
Жидкость согревает губы, и я отдергиваюсь, но кровожадный инстинкт заставляет язык юркнуть наружу…
Вкус ее крови – как удар молнии прямо в мозг.
В сердце.
В гребаную душу.
Ноги подкашиваются, я падаю на колени, втягивая воздух острыми срезами через сдавленное горло. Каждый мускул в теле напряжен, под кожей выступают вены, само мое существо пытается занять больше места в мире, который вдруг кажется слишком маленьким. Слишком жестоким.
Слишком, чтоб его, опасным.
Запрокидываю голову, высматривая в переплетенных нитях дыма гаснущие звезды, скалю зубы, словно могу взвиться вверх и пожрать колючки света до тех пор, пока на небе их не останется.
– Вы, ублюдки…
Я рычу, усиливая хватку.
Нет.
Вскочив на ноги, я широким, решительным шагом направляюсь к своему коню. Забираюсь в седло, закутываю дитя плотнее и высылаю жеребца вперед, единым уродливым действием рассеивая и петлю теней, и собственное пришедшее в упадок самомнение.
– Шли бы вы на хер, – бормочу, отрывая взгляд от звезд, когда мы скрываемся под кронами древних деревьев.
Сегодня дитя не умрет, но не из благих побуждений.
Мой поступок целиком и полностью эгоистичен.
Глава 1
Орлейт
19 ЛЕТ СПУСТЯ
В пламени свечи, вспыхивающей огненным сердцебиением, острый кончик иглы становится красным. Отдергиваю ее, встряхиваю.
Злая штучка.
В ожидании, когда она остынет, усаживаюсь, скрестив ноги, на свою кровать и обвожу взглядом комнату, скольжу по изогнутым обсидиановым стенам, что пронизаны большими куполообразными окнами. Между ними камень украшают большие и маленькие картины, прикрепленные домашним клеем.
Мягкий изгиб благосклонен лишь к тому, что способно прогнуться, а я отказываюсь просыпаться каждое утро среди угрюмых стен, лишенных цветных пятен. Таких я и так вижу предостаточно, прогуливаясь каждый день по замку.
Вся моя мебель сделана в соответствии с комнатой – изогнутый комод, изголовье кровати с балдахином, даже ванна лепится к каменному цилиндру лестничного колодца. У внешней стены стоит узкий стол, занимающий примерно четверть окружности, его поверхность завалена букетами сухих цветов, множеством ступок с пестиками, маленькими баночками со всякой всячиной… и камнями. Кучей черных камней всех форм и размеров, многие наполовину или полностью украшены цветными мазками.
Пройти мимо гладкого камешка – всегда испытание. В девяти случаях из десяти они попадают ко мне в сумку, потом в башню и подвергаются нападению кисти.
Снаружи колодца есть камин и деревянная дверь – единственный путь в мою комнату или из нее, если не считать эффектного падения с края балконной балюстрады.
Несколько лет назад я выкрасила дверь в черный, а затем на протяжении целых девяти месяцев украшала ее россыпью светящихся звезд, которые идеально повторяют ночное небо. Даже луна есть, наполовину погруженная в тени.
То, на что я могу смотреть, когда все затянуто плотными, штормовыми тучами.
Прижимаю кончик иглы к подушечке среднего пальца до болезненного укола, и на поверхность крошечной ранки мигом проступает шарик ярко-алой крови.
Кривлю губы.
Вид собственной крови не должен приносить мне удовольствия. Но ведь приносит. Потому что эта кровь, этот маленький акт членовредительства предназначается не для меня.
А для него.
Для Рордина.
Кладу иглу на глиняную тарелку на прикроватном столике, затем опускаю палец в хрустальный кубок, наполовину наполненный водой. Она окрашивается розовым – цветом здорового цветения в середине весны.
Вздыхаю, гадая, понравится ли ему. Не сочтет ли слишком розовым или слишком красным? Он никогда не жалуется, никогда вообще ничего не говорит на эту тему, в чем как раз и заключается проблема.
В незнании.
Покручивая кубок и размешивая содержимое, направляюсь к выходу и опускаюсь на колени так, что теперь на уровне моих глаз оказывается дверь поменьше, вырезанная в толстом старом дереве, испещренном нарисованными вручную звездами.
Шкаф.
Название дала Кухарка, когда я была слишком мала, чтобы делать подношения самостоятельно. Так и прижилось.
Этой дверцей я измеряла свою жизнь – потребностью сперва дотягиваться на цыпочках, затем стоять ровно, затем наклоняться.
Тяну за нее и открываю пустую нишу размером ненамного больше моего хрустального кубка. Ее стены грубые и выемчатые, словно их вырубил человек в гневе.
Ставлю подношение на поставку – красивую, в отличие от ее темницы из необработанного дерева.
И я, как всегда, завидую дурацкому кубку, тому, как его сожмут, покачают, коснутся губами… по идее.
Все это очень близко к желаниям, которых я не должна испытывать, и потому заслужило мою неразделенную ненависть.
Закрываю Шкаф, приземляюсь на задницу и немного сдаю назад, крепко обхватив руками колени, и все это время разглядываю две такие разные двери.
Большую я часто предпочитаю держать закрытой, как барьер, чтобы отгородиться от мира всякий раз, как чувствую необходимость спрятаться. Меньшую я хотела бы оставить открытой в этот ночной час, чтобы смотреть Рордину в глаза, пока он принимает мое подношение.
Однажды я попыталась… год назад. Просидела на этом же месте, почти не моргая, далеко за полночь. Он пришел только после того, как я захлопнула Шкаф, тем самым разорвав связь.
Вот тогда-то до меня и дошло, в какие неприятности я вляпалась.
В моей башне эхом отдаются тяжелые шаги, созвучные громкому, частому стуку моего сердца.
Закрываю глаза и считаю его шаги, представляя, как он взбирается по винтовой лестнице, которая вьется внутри моего колодца, преодолевает все сто сорок восемь ступеней, прежде чем наконец замедлиться; так происходит всегда перед тем, как он поднимается на верхнюю площадку.
Как наяву вижу, как он стоит у двери, роется в кармане, вставляет ключ в замок, сжимая губы в жесткую линию, что взрезает его лицо. Как вспыхивает в окаменевших глазах искорка удовольствия, когда он обнаруживает хрустальный кубок, полный моего тщеславного подношения.
Красивая ложь, которую мне нравится рисовать. Сказочная реальность, где я нужна ему так же сильно, как он нужен мне. То, что помогает укротить зарождающееся в груди незваное чувство.
Дверь с глухим стуком закрывается, и я бросаюсь вперед, прижимаю ухо к дереву, прислушиваясь к равномерным шагам вниз по лестнице.
Когда я проверю Шкаф утром, там будет кубок, лишенный жидкости, но до краев полный вопросов, которые льются на меня всякий раз, как я его достаю.
Почему ему это нужно? Для чего использует? Нравится ли ему… то, что между нами?
Потому что мне – нравится.
Я с нетерпением жду заветный миг и, когда он минует, сдуваюсь. Слишком уж часто предаюсь фантазиям – в которых он пьет меня из хрустального кубка, а я все время удерживаю его взгляд.
В которых все происходит открыто, а не будто нам есть чего стыдиться.
Беру с кровати расческу и направляюсь к балконным дверям у прикроватного столика, выхожу на свежий сумеречный воздух, где приступаю к утомительному занятию – расчесываю накопившиеся за целый день узлы в длинных золотистых волосах.
Даже когда я приподнимаюсь на цыпочки, выглядываю из-за балюстрады, высматривая на земле хоть намек на движение, мне нравится притворяться, что я выхожу сюда наблюдать, как зреет вечер, а расческа – просто способ занять руки.
Пусть я упрятана в башню, которая временами теряется в облаках, у меня все еще сжимается сердце, когда в высоких дверях замка появляется Рордин и широкими, решительными шагами пересекает поле к лесу, который граничит с поместьем.
Он никогда не поднимает взгляд. Никогда меня не ищет.
Он просто пересекает границу, а потом исчезает в зарослях шалфея, мха и зелени, что простираются, насколько хватает глаз, во все стороны, кроме юга.
Всегда один и тот же монотонный заведенный порядок, от которого я не могу оторваться.
Солнце ныряет за горизонт, обжигая небо светом, дуновение холодного, соленого ветра играет с подолом моей рубашки, от чего по коже пробегают мурашки, а зубы начинают стучать.
Разделяю волосы на три части, заплетаю косу. Когда разделываюсь со всей длиной, последний луч света уже успевает покинуть землю, а мои пальцы – онеметь от холода.
Он не вернулся.
Шаги обратно в башню даются все тяжелее.
Подавляя зевок, я подхожу к прикроватному столику и перебираю множество закупоренных бутылочек на подносе. Поднимаю одну, качаю из стороны в сторону, хмуро глядя на негустую жидкость цвета индиго, что плещется внутри…
Клянусь, ее было больше.
С раздраженным фырканьем возвращаю бутылочку на поднос, задуваю свечу и забираюсь в постель.
Губа, которую я нервно покусывала, теперь пульсирует, и я ругаюсь, натягивая до самой шеи плотное одеяло и разворачиваясь к северным окнам.
Небо – бархатное полотно, усеянное звездами, которые подмигивают мне впервые за неделю. В окна льется свет луны, очерчивая бутылочки, стоящие на расстоянии вытянутой руки.
И тот факт, что все пусты – кроме одной.
Подавляю дрожь – ту, что вызвана не холодом ранней весны, но бурей, что захлестывает мое нутро, бьет молниями, которые посылают по теле волны…
Впервые за несколько месяцев я ложусь спать в трезвом уме.
Их глаза широко раскрыты и не мигают, рты разинуты, словно тела развалились на части прямо посреди вдоха, застрявшего меж губ. Все они утратили куски себя, а те, что еще крепятся к телу, слишком неподвижны.
Слишком тихи.
Остались лишь чудовища.
Я что-то упускаю. Что-то важное. Чувствую это в груди; пустоту, которая будто придавливает меня к земле.
Крепко зажмуриваюсь – отгораживаясь от мира, что пылает и рушится, и пытаясь сложить воедино все детали.
Меня почти раскалывает на части пронзительный звук сродни скрежету гвоздей по тарелке. Он снова и снова поет свою злобную песнь, перемалывая мне нутро.
Сдираю горло в кровь криком.
Из носа течет, я бью себя по ушам сжатыми кулаками так, что череп вот-вот расколется.
Жестокий образ меркнет, размываясь под порывами ветра, и вдруг я на утесе, вглядываюсь вниз, в мрачную бездну. Царит умиротворенная тишина, не менее пугающая, чем те пронзительные звуки, что меня терзали, а из моего носа уже не течет.
Оттуда хлещет.