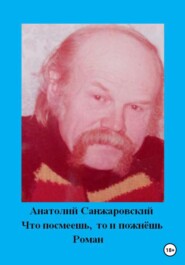 Полная версия
Полная версияЧто посмеешь, то и пожнёшь
Кем откроется Аллея?
Кто захватит призовое местечко номер один?
Кто к сроку нырнёт в гроб? Именно в предпраздничную неделю?
Говорят, между почётными кандидатами в спецжмурики разгорелась нешуточная война. Ради любимой и славной КПСС каждому зуделось лечь костьми не раньше и не позже кануна праздника. Дорога ложечка к обеду! Иначе останешься без обеда. То есть без первого распочётного места на Аллее.
И кто ж, думаете, лёг трупом на открытии Аллеи?
Горбылёв!
Говорят, спецсмерть ему была устроена по большому спецблату.
Но это говорят.
А вот то, что он ухватил первенькое местечко – это уже не разговоры. Это исторический факт.
И кто бы мог подумать! Наш пострел и тут поспел!
Тупица, развратник…
Но какой наш тупица! Какой наш развратник! Какой партсынуля! Какой верный ленинец! Верно служил всю жизнь компартии – получи первое место на красном погосте!
Правил к красному погосту и Пендюрин.
Но не срослось вот.
А как славно-то всё шло…
Наконец-то перевели его из Верхней Гнилуши в обком.
В первый рабочий день побежал первый раз на дорогой обкомовский горшок. С ногами взлез на горшок чинно-благородно и котовато замурлыкал любезный сердцу народный романсишко:
– На мосту стояли тр-р-рое:Она, он и у него…Его вульгарное пенье на полуслове вдруг сломил грубый стук сбоку. Из соседнего кабинетти.
– Пендель! А что это ты такой антикультурный? Как истинный красный помидор![417] Навстречу в коридоре прожёг молча. Ха! Купил вертолёт![418] Мне этот помёт Валькирии[419] не понравился. Не рановато ли ты пендюрочку настроил?[420] Ну, чего молчишь? Попа-ал ты в засаду… Со страху, говоришь, даже рейтинг упал? Прямо в самогонный аппарат?[421]
Пендюрин с замирающим сердцем вслушивался в знакомый голос сбоку и боялся вздохнуть. Неужели он посмел не заметить кого-то из обкомовского генералитета? Наверняка кто-то из шишколобых. Обкомовская килька так бы не отважилась с ним греметь крышкой.
Голос говорившего у него на слуху.
Но он никак не мог угадать, кто же именно базарит.
– Ну ты, унесённый в унитаз цукерок,[422] чего молчишь? До тебя ещё не доехало, что бесплатный секс бывает только в мышеловке? Ну что, винтики крутятся? Шевелишь понималкой и никак не угадаешь, кто за стеночкой? Сама Понарошкина!..[423] Всё равно молчишь? Отвечай, ты где такой бурости набрался, что начальство в упор не замечаешь? Прогладь, шкварыга, пиночетки[424] и уёбывай своим ходом из обкома, покуда я тебя не опустил в шурф! Целую неделю сидел я честно-благородно на строгой диете.[425] Но ты, скотобаза, как видишь, выбил меня с культуры. Мухой отсюда! Я дал овцу,[426] а ты, огрызок удачи, живо шустри отсюда! Вон из нашего ёбщества! Хоть в саму Ебаторию![427] Вечно загорать! Не исчезнешь по моему собственному желанию – подвешу за кокосы! Да будешь уже беспартя́нок![428]
Пендюрин затаил дыхание.
«Какой это бере-мере-бис[429] так круто разоряется?»
Голос вроде знакомый и незнакомый. Нет, ничего пока не вякать. Для точности надо послушать ещё.
– Э! Ринго Сталин!..[430] Чего молчишь? Лапшемёт проглотил? И на Сталина, рогожа трёпаная,[431] рассмелился не откликаться? Ну рог зоны! Ну ненаглядный рогозон![432] Повторяю по твоей бессловесной просьбе, даун. Знай, целый обком, наша медвежья берлога, нам с тобой тесна на двоих! По-хорошему заворачивай отсюда свои оглобельки. Не то ёрш твою медь!.. На красоту пожил, пофестивалил в Гнилуше и полный писец! Капитально же ты там замочил рога!.. Скажешь, сам такой. Такой, да не такой! Мои фортели, после которых я слетел с каменского насеста, в дорогом обкоме приняли благосклонно. Повысили. Взяли к себе поближе. Мои штучки – плюнуть можно, да растереть нечего. А вот твои-и… Ну, шевелишь рогами? Доходит?.. Одни эфиопские налоги за приём в партию во что тебе выльются? Мелко не покажется! Вагон твоих штукерий в документиках ждут не дождутся отправки по вер-хам-с… Попадёшь под такие молотки!.. Молебен я кончил. Сдавай рога в каптёрку[433] и умахивай отсюда, пока дышать даю! Ты не забыл, как учил товарищ Суворов, который генералиссимус? Товарищ Суворов, который генералиссимус, учил: «Опасности лучше идти навстречу, чем дожидаться её на месте». Ну, ты глину уже метнул? Так что выходь, хампетентный Леопольдишка. Понимаю, момент переживательный… Не вздумай гнать беса в поле![434]
Пендюрин узнал голос Горбылёва, и в нём всё примёрло.
В Гнилуше Пендюрин был первым секретарём райкома.
А вторым – Горбылёв.
Много кровушки Пендюрин, этот персональный «коричневый карлик»,?[435] попортил Горбылю, пока не выпер из райкома.
И круто затосковал, когда узнал, куда выпер неугодника.
В обком!
Правда, с десятилетней пересадкой в Каменке.
Да не простым инструкторишкой, кем сам был сейчас, а сразу в замзавы!
За долгие годы разлуки Горбылёв уматерел, протёрся в завы крупного отдела, свёл тесную дружбу с мохнатыми комлапами. Совсе-ем не похож на того дурачка со свистком, каким был в Гнилуше.
Дурак со свистком – эту кличку припендюрил Горбуне сам Пендюрин.
Устанавливали у райкома памятник Владимиру Ленину. Если расшифровать пендюринское имя Владлен (Владимир Ленин), так дело отважно наплёскивалось на вопрос. Кому ж тогда именно ставили памятник?
Кому??
Пендюрин сидел на подоконнике второго этажа и из своего кабинета гордо наблюдал в распахнутое окно, как устанавливали именно ему памятник. Так именно он чувствовал себя. Устанавливали не какому-то мифическому Владимиру Ленину, а именно вот ему, живому, конкретному, сидящему на подоконнике и грызущему семечки.
И так понравилась Пендюрину мысль, что это именно ему устанавливают, что он, забывшись, в приветствии кинул руку вперёд, когда Ленин, подхваченный экскаватором, закрутился в воздухе на тросах и на какой-то миг повернулся протянутой пустой рукой к самому Пендюрину.
Пендюрин не мог опуститься до того, чтоб не поздороваться с вождём и в ответ приветственно, широко вскинул руку.
Поздоровался с собой!
И захохотал.
Многие зеваки это увидели и себе засмеялись над выходкой Пендюрина.
Работами руководил Горбылёв.
Во имя подправки репутации Пендюрина он должен бы был посвистеть в свисток – никто не смейся над хозяином района! – а он то ли зазевался, то ли нарочно дал народу просмеяться над Пендюриным, не посвистел, не оборвал недостойный, пошлый смешок, и тогда Пендюрин крикнул из своего высока Горбылёву:
– Что же ты, дурак со свистком, молчишь? Почему не руководишь спецработами как положено?
Дурак со свистком!
Так и приварилась эта кличка к Горбылёву.
Но в следующую минуту с приплодом оказался и сам Пендюрин. Рикошетом ему досталась кличка Дурак Без Свистка.
Так за глаза стали его звать все знакомые с того момента, когда он, сидя на подоконнике и наблюдая за тем, как ведёт установку памятника Горбыль, крикнул ему:
– Становь Ильича протянутой ручкой ко мне!
А сам дополнительно в восторге подумал:
«Славно-то как! Хорошая мысля таки не прибежала опосля. Пришла ко времени. Вот так утром завтра приходишь к себе в кабинет, распахиваешь окно, а к тебе в приветствии дерёт каменную ручку сам Картавенький:
– Здравствуйте, Владлен Карлович!
– Здравствуйте, Владимир Ильич!
Тако славненько перекинешься с утреца сладкими словцами с самим и на весь день заряжен высоковольтной коммунистической энергией».
А наутро подкатывает Пендюрин к райкому на «Волжанке» и на судорожном вздроге видит форменное безобразие. К нему, к подъезжающему Владлену Карловичу Пендюрину, вождь стоит неприличным местом!
«Гм… Мне глубоко кажется, мог бы и повернуться лицом…»
Но все обиды увяли, как только Пендюрин поднялся к себе на второй этаж, враспах толкнул окно и в ответ на вскинутую руку вождя приветно помахал. Здравствуйте, здравствуйте, Владимир Ильич!
Вроде всё стало на свои места. Да не совсем.
Вызвал Пендюрин Горбылёва:
– Слушай! Ты знаешь, какое чэпэ сегодня приключилось? Подъезжаю я к рейхстагу, а твой Ленин торчит ко мне спиной. Как вкопанюк! Мы его приветили на своей земле… А он… Что за дичь? Вот так каждое утро и начинай с того, что смотри ему в тоскливый багажник? Ничего интересного… Не бельведерочка какая…
– А что же ты хочешь?
– Совсем малого, дупель! Чтоб всегда Ленин был ко мне лицом!
– И когда подъезжаешь? И когда из своего кабинета перемахиваетесь ручками?
– Именно! Подъезжаю – он мне машет, едва выскочи я из-за угла. Я у себя в кабинете, – он уже снизу – (райком был на бугорке) – мне угодливо машет наверх. Нельзя ли, чтоб Ленин вращался?
– Нельзя.
– Вот так всегда! Вечный дубизм! О чём я ни попроси тебя… Нельзя и нельзя! Архирешительно нельзя!! Сотрись с экрана! Говорить нам больше не об чём.
Побежал по району смешок. И что это такой странный вождюк прикопался у рейхстага? Ко всем идущим в рейхстаг демонстративно стоит спиной!
Особенно это дёргало жалобщиков. Мол, и в рейхстаге нам правда не светит, раз сам Ленин уже на подходе повернулся к нам нижним бюстом и радостно машет ручкой рейхстагу. Понимай так: что рейхстаг ни делай, всё правильно!
Обком приказал Горбылёву за одни сутки развернуть Ленина лицом к идущим в райком.
И как только Ленин встал спиной к райкому, Пендюрин в отместку решил выпереть из своих замов Горбылёва. Но и это его не успокоило. Смертная скука сжала его. Он увидел, что люди, шедшие, наверное, со своими бедами в райком, уже не все подходили потом к райкомовской двери.
Они пристывали у Ленина и жаловались ему.
Ревность подпекала Пендюрина.
Однажды он налился с горочкой до полного одухотворения и, открыв своё окно, стал, как селёдка с глазами камбалы, слушать, что несли гнилушанские ходоки.
– Владимир Ильич! Что нам делать? Жрать нечего – одна солома осталась!
– А вы ешьте солому.
– Так мы же так мычать начнём!
– Ну почему же? Я вот по утрам липовый медок кушаю, а не жужжу.
– Владимир Ильич, я колхозник. Приехал в райцентр купить пару сапог, а денег не хватает. Вот до чего мы дошли! У вас голая голова, а у меня – ноги…
Другой крестьянин жаловался, что нечем в его колхозе коров кормить.
– А вы, батенька, – отвечал Ленин, – скрестите корову с медведем. Чтоб гибрид получился. Доится, как корова, а зимой сосёт лапу, как медведь.
На грязной лошади верхом подлетел секретарь колхозной парторганизации:
– Владимир Ильич! У нас хорошо развито соцсоревнование. Хоть и говорят, что оно похоже на соревнование социалистической системы с нервной, а мы, встав на трудовую вахту в честь Октября, рапортуем вам о своих больших успехах. Недавно на повестке колхозного собрания у нас было два вопроса: строительство сарая и строительство коммунизма. Ввиду отсутствия досок сразу перешли ко второму вопросу. Правда, у нас ещё попадаются недалёкие товарищи и не верят, что мы построим коммунизм. Так как их мне убедить?
– Кулаком! Кулаком!
Прискакал и председатель колхоза «Ветхий ленинский завет» Суховерхов:
– Владимир Ильич! Мы уже одной ногой находимся с вами в коммунизме. Но другой мы пока ещё в социализме. И долго мы так враскорячку стоять будем?
– А вы не стойте на месте! Работать, работать и ещё раз работать!
Из толпы ходоков выдвинулся вперёд мужик с жалобой на произвол ВЧК.
– А вы к Дзержинскому обращались? – спросил Ленин.
– Обращался. И он послал меня на хрен.
– Кристальной души человек этот Феликс Эдмундович! – воскликнул Ленин. – Другой на его месте к стенке бы поставил.
Среди ходоков затесался и один еврей со своей бедой.
Еврей в российской глубинке – эта такая диковинка.
Так вот эту диковинку милиционер и не подпустил к Ленину.
Накричал:
– Вы в своём уме? Вы что, не знаете, что Ленин давно умер?
– У вас всегда так. Если вам нужно, так он вечно жив, а если нужно бедному еврею, так он давно умер.
И тут пошли звонки.
– Владимир Ильич! Участники кронштадтского мятежа арестованы. Что с ними делать?
– Гасстгелять! Но перед гасстгелом напоить чаем. И непгеменно горячим!
Новый звонок. Дзержинский:
– Владимир Ильич! Когда расстреливать – до обеда или после обеда?
– Пгенепгеменно до обеда! А обеды отдать детям. Дети рабочих голодают!
Позвонила и секретарь.
– Владимир Ильич, вам посылка из Красного Креста.
– Детям! Отдайте всё детям!
– Там презервативы.
– Оставьте двадцать штук Дзержинскому, а остальное проколоть и меньшевикам.
Дозвонился и министр сельского хозяйства.
– Товарищ Ленин! Мне после смещения предложили возглавить онкологический центр. Но я же в этом ничего не понимаю!
– Но вы же руководили сельским хозяйством – и хлеба не стало. Займётесь онкологией – может быть, рака не станет!
В сторонке, справа, у клуба, построенного на месте снесённой коммунистами церкви, местный шансонье ублажал под гитару абсолютный слух Ильича:
– Прошла зима, настало лето,Спасибо партии за это!За то, что дым идёт в трубе,Спасибо, партия, тебе!За то, что день сменил зарю,Я партию благодарю!За пятницей у нас суббота –Ведь это партии забота.А за субботой – выходной.Спасибо партии родной!Спасибо партии с народомЗа то, что дышим кислородом!У моей милой грудь бела –Всё это партия дала.И хоть я с ней в кровати сплю,Тебя я, партия, люблю.Теперь, сидя на обкомовском горшке, Пендюрин с ужасом думал, что же ему делать. У Горбыля были такие свидетельские плюхи, что Пендюрин даже в ужасе зажмурился и побоялся сразу открывать глаза. Ведь только одну плюшку выкинь в верхах Горбуха – гулять Пендюрину по «диким степям Забайкалья, где золото роют в горах». Но если до прогулки по Забайкалью, совмещённой с мытьём брусники на нарах, дело и не докувыркается, то уж по минимуму вылетит он из обкома, как пердёж из старой дохлой кобылы.
– Ну что, Пенделёк, окопался на века на обкомовском горшочке? Наивно считаешь, что в шторм любая гавань хороша, в том числе и наша какальня? Чего молчишь? Долго собираешься держать стойку?[436] Прямо скажу, ситуёвина у тебя шваховая. Хватит, хренов Ильичок, думствовать! Или мозгуешь, какие пульки мне лить? Ускрёбывай, мухомор, отсюдушки по первому звону! Не то мыль верёвку! Я мэн крутой. У меня теперь не сорвётся, как в Гнилуше…Я ясно сказал, как коммунист пока коммунисту? Или ты уже не желаешь им быть?
– Ну к чему такая крутота?.. Ну к чему весь этот кайфолом?.. Понимаешь… Мне глубоко кажется, меня могут не понять. Перевели сюда с повышением… Все друг дружке радовались… И в первый же день просись в уход! Ну не глупо? Сергей Сердитыч, милоха… Ну… ёк-макаёк… Не надо монстрить… Не обижайся… Хоть слегка следи за метлой…[437] Ты когда-то был ладливый… Вспомни… Мы с тобой почасту завершали трудовой день незабываемым офицерским троеборьем…[438] Ка-ак хвастались друг перед дружкой спецхарчами…[439] А потом – любезное перекрёстное опыление юных неваляшек… Е-есть что вспомнить. Человечища ж когда-то был, между дрочим! Умняга!.. Мозган!.. Что с тобой случилось? Да тампон тебе на язык! Ну, японский городовой Нобуёси!.. Давай мы, ёжки-мошки, похерим войнишку между нами. Я большь не буду подпускать тебе вони!
– А клавиатуру пожевать не хочешь?
– Да честное партийное!
– Иша! С понтом под зонтом![440] Да мне с прибором положить на твоё честное партийное! Какой ты, попа с ушками, сейчас шёлковенький да простой, как ситцевые трусы… А я помню тебя другого. Смелюра был… Кто орал? Кто бил себя пяткой в грудь и орал: «Сживу со свету! Загоню дальше Колымы!» Кто орал?.. А как прищемили ему авеню ля залупон дверью, так сразу лапки кверху. Не буду… Не буду… А я буду! Пока не урою тебя, гаду. Пока не впишешься рогами в морг!
– Извини, Сергунчик… Сейчас круче тебя только яйца, выше тебя только звёзды… Мне глубоко кажется… Давай забудем все встречные пинки и отмочим канкан. Отметим столетие канарейки!
– Кончай эти подхалимажные глупизди! Захлопни, одноклеточный, свою помойку и слушай! Прикрываем эту мутоту! Даю тебе, мелиоратор, сроку две недели. Упиливай отсюдушки! Делай срочный отскок! От-ру-ли-вай!.. Не уберёшься, педерастяпа, своим ходом – понесут вперёд чёрными пиночетками. Я уж постараюсь, будь спокоен… Мелко не покажется!.. У тебя ж, козлина вонючий, не то что рыльце в пушку – вся рожа в дерьме! Бабий везувец!.. Весь Везувий!.. Кто взлетел с пупка Кафтайкиной в райком комсомола? В райком партии, в этот гнилушанский рейхстаг? Даже в обком? Ты хорошенько помнишь своё восшествие на партпрестол? Не забыл ни один кривой этапчик своего большого пути?.. Кто за эфиопские налоги восстанавливал в партии жульё, покрывал всех гнилушанских ворюг? У меня в документиках всё ясно прорисовано кого, где, когда, за сколько… Кто из райкома комсомола, из райкома партии сделал пенисные корты? Может, ты разбежался и обком превратить в тот же пенисный корт или в бабслейленд? Не позволим-с! Пэцэ тебе!.. Думал, всю жизнь будешь с автоматом Калашникова бегать наперевес да мять заплесневелую горжетку кафтайкинскую? Думал, будешь без конца пари́ть вверх к новым чинам и попутно к высотам коммунизма? Отлетался Ленин в Разливе! Твоя вринцесса Кафтайкина срочно скурвилась под ноль, и седая прореженная горжетка по обкомовскому реестру оттранспортирована на склад готовой продукции[441]. Держать тебя здесь больше некому! Ну что, рейтинг глубоко упал и писькин домик осиротел?.. А то… Ишь, разлетелся! Тыр-пыр, едем на Таймыр! Жих-жих! Жих-жих! Чух-чух!.. Чух-чух!.. Чух-чух!.. Но до Таймыра не доехал. Керосинчику не хватило-с. А впрочем, может и хватить, если я похлопочу… Не будь чем щи разливают. Просись, поплавок унитазный, сейчас же куда поглуше пока своей волею… Отпускаю… Не злой я ровно две недели. Две недельки я могу с тобой покамасутриться…[442] Ты испаряешься с обкомовской широты – мне совершенно монопенисно,[443] что с тобой там. Я тебя не знаю! Секи момент…
– С такого разговора всё темно, как у негра в дупле… Ну зачем тащить сюда прошлое?.. Попал я в бидон… Я ж всю жизнь протолокся в глуши. И снова своей волей ломись туда же? Да как же проситься, отрыжка ты пьяного бегемота?
– А мне, ваше ничевошество, до лампочки Ильича!
– Ну ка-ак?!
– Просто… Муханизм простушка… Ну ты, болтунец[444]… Перевязал уже кобылку?[445]
– По полной программе.
– Вот и ладушки! А то привык чесать на низок.[446] Сейчас же, нирвана-нисшита,[447] топай к своему заву. Садани себя кулачком в волосатую сиську и восплачь… Не могу я, дубопляс, дорогие обкомовские ковры топтать! Недостойный я спермотазавр! Ж-ж-жалаю назад! На передовые родные соцрубежики! В народ! В саму глубинищу! На передний край святой борьбы за наше светленькое-чёрненькое. Всё тебя, аленький цветочек, учи!
– Повторяю… Ну ни в зуб галошей… Я ж только оттуда!
– Снова, неюзабельный,[448] просись. Не всё, мол, достроил… Не имеете права отказать святому порыву святой души!
Пендюрин запечалился.
«Где же вы мои, тузья-друзья?»
Самое тяжёлое в старости – это мысли о молодости.
Он ватно вспомнил свою голосистую партайбаронессу Кафтайкину, свою сексопилочку-ненасыточку Надежду Константиновну. Помогла въехать в обком. Вот бы кто ему помог сейчас тут угнездиться!
Да куда!
Его Надежда Константиновна хоть и не ровесница вождёвой Надежде Константиновне, но коньки уже склеила.
«Вот и кончились весёлые похождения пестика и тычинки… И мой автограф, поди, сотлел уже на её лобке… Я на мелководье… Ах, Надюха, Надюха!.. Как ты посмела покинуть на произвол судьбы своего верного одномандатника? Ну не глупь?.. Безответственнейший, необдуманный шаг! Помогла влезть в обкомовский рейхстаг – партийное спасибище! Дала мёду, так дай же и ложку! Помогла б ещё прочно окопаться тут, а там и склеивайся на здоровье!.. А то… Как видишь, от перестановки слагаемых суммочка крепонько меняется… Бросить одного на растерзание горбылей. Кукуй один среди этих монстрюг… Слопают ведь!..»
Горбылёвские хлопцы-партократики так турнули несчастного Пендюрина, что он снова приочутился в глухой глубинке.
Через месяц Пендюрин уже вставлял ума в районном сельце Новая Усмань.
Это ж такая могильная спецдыра…
Ельцинский президентский указ о прекращении деятельности компартии в России насмерть перепугал Пендюрина.
Он достал из холодильника початую бутылку сталинского[449] коньяка, на вздохе пихнул в карман и, не закрывая кабинет на ключ, побрёл домой.
До дома было метров триста.
Это расстояние он ни разу не прошёл своими ногами. Утром и вечером эту пустую трёхсотку чёрно прожигала на бешеной скорости «Волга». Пендюрин любил быструю езду не меньше Неолита Ильича.
Но сейчас Пендюрин не стал вызывать шофёра, и осталась в гараже его «Волга», рейхстаговский бугровоз.
Он решил, что больше не войдёт в свой рейхстаг.
Он шёл и не шёл. Ватные ноги еле несли его.
В кутерьме скверика у райкома бузили усманские алики.
Драли козла кто как мог.
Расскажу я вам, робята,Как тоскливо без жаны.Утром встанешь – сердце бьётсяПотихоньку об штаны.По весне кол торчком,Тяжело, братцы.Приходите к нам в райком –Палками кидаться.Я не помню, как заснулаУ шофёра на руке.Просыпаюсь – целки нету,Три рубля торчат в руке.Всё вам, девочки, припевочки,А мне не до того.Умер дедушка на бабушке –Сдавал на ГТО.И немцу не дала,И грузину не дала.Свою узкую –Только русскому!У кого какая милка,У меня дак секлетарь.Не даёт пощупать титьки,Говорит: «Пониже шарь!»Харят нас и тут и тамКоммунисты разные.Неужель мы оттогоСами станем красные?Полюбила я парторга,У него партийный орган.С ним любиться нипочём –Обмотан орган кумачом.Всё запреты да запреты.Делай то, не делай это.На черта такая жизнь?Государство, отвяжись!Коммунисты нас терзалиЧуть не весь двадцатый век.И до смерти затерзалиМиллионы человек.Коммунистов изберут,Все продукты пропадут.А предпринимателиПойдут к такой-то матери.Был при Сталине порядок:Десять, двадцать и расстрел!Голосуй за коммунистов,Если снова захотел!Дома Пендюрин меланхолично поиграл горниста – из горлышка безотрывно выдул почти всю бутылку и, не удержав её, выронил. Бутылка с веселым звоном покатилась под диван, выплёскивая остатки коньяка на пол.
– Мыш…ка… норуш… ка… Сейчас же вылезай! – погрозил он бутылке ватным кулаком.
Но бутылка почему-то не показывалась из-под дивана.
Он устало махнул рукой и разгромленно загудел:
– «Как-то ночью на закате заглянул я в личный чум.
Там мужчина бледнолицый выковыривал изюм.
Я наглею, я зверею, надоело объяснять:
Сядем у канавы
День полярный провожать».
Тут вернулась на рейхстаговском членовозе из области, из спецпарикмахерской, Лика.
Присела на корточки перед ним. Пошатала за плечо.
Он еле разлепил один мутный глаз.
– Я слышала… Ну что, звездочёт коньячных этикеток, проводил полярный день? Ох-охушки-и… Полный перебор… Похоже, оприходовал весь боекомплект…[450] И пол влажный,[451] и сам влажный… Под завязушку наборомзился?[452]
– Не путай сюда своего Бровастого. И вообще кончай баллоны катить, вшегонялка!.. – Он лёг щекой на стол, устало закрыл глаза. – Я теперь свободен, как негр в Африке. Больше в присутствие не иду… Прощай, мой рейхстаг…
– Или ты, Глупчик, недоперепил? Что за бред уснувшего генсека?
– Не бред, а суровая реальность. Накатила годинушка… Поспевай только отскакивать!
– До такого договориться… Цок-цок… Кре-епенько смазал утомлённый организм… Ну!.. В сторону твою реальность. Займёмся моей. – Она кокетливо глянула в зеркало на стене, чуть взбила сзади волосы на голове. – Как тебе новая причёска? Оцени.
Он вяло кинул руку в сторону и устало шепнул:
– Прощай…
– Да ну ладно тебе бурить мозги! Это в честь-то чего прощай?
– Прощай, спецфигаро…[453] Прощай, – глянул на пустую бутылку из-под коньяка, выглядывала из-за ножки дивана. – Прощай, спецбуфетик… И ты, кусик… прощай… И наш бурундятник прощай. Все прощайте… Прощай наша сладкая жизнь… Безвыходняк…
Лика чувствительней шатнула его плечо.
– Сколько тебе говорить: не пей? Или ты забыл, что водка – пережиток прошлого, настоящего и будущего? А ты… Похоже, мой алконавт словил-таки сегодня белочку[454]? Ответил на красный террор белой горячкой? Проспишься и белочка убежит снова в лес!
– Некуда бежать белочке… Ты что, не слыхала?
– Слыхала, несчастушко ты мой. И что? Борька пукнул, а ты в обморок упал? Нашёл кого бояться! Да они с Горбатым поцапались у цэковской кормушки. Борька и дерани в дерьмократы. А так кинь пятнистый Горб ему сладенькое местечко и сидел бы помалкивал… Борьки бояться не надо. Свой же! Из коммунистов! А коммунисты ничего серьёзного не сделают!
– Это верняк! Мы вон семьдесят три года бегали при власти. И чего мы сотворили?.. Хорошего?.. А шиш мы чего сотворили хорошего. А за всё прочее… Нас мало повесить за ногу или за кокосы!



