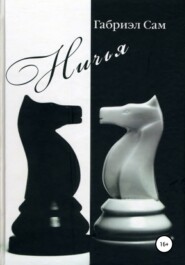 Полная версия
Полная версияНичья
Ноябрь 2015 года
Дукас
Весной завершилось строительство офицерской гостиницы, и все молодые офицеры, обитатели временного общежития, оборудованного для них в одном из корпусов воинской части, переселились в свежевыкрашенные номера. Это знаменательное по местным меркам событие состоялось в апреле 1975 года в небольшом городке с населением около четырнадцати тысяч жителей, что было сопоставимо с численностью личного состава дислоцированной здесь дивизии. Новое здание гостиницы заметно выделялось среди старых городских построек, но, видимо в целях экономии, строилось по устаревшему проекту, не предусматривающему в номерах туалетов. Они, как и в общежитии, оказались в конце коридора. Однако было и существенное отличие, которое особенно радовало новосёлов, – на каждом этаже гостиницы имелись душевые кабины и даже стиральная машина. Подумать только – душевые кабины! Принимать душ в любое удобное время! Не ходить в эту старую, убогую, дурно пахнущую городскую баню. Настоящий прорыв в цивилизацию!
В гостинице иногда останавливались командированные военные, но в основном она предназначалась для проживания холостых офицеров дивизии. Неудивительно, что среди постоянных её жильцов преобладали молодые лейтенанты, не так давно окончившие военные училища, либо так называемые офицеры-двухгодичники, призванные на два года в армию после окончания вузов. Я принадлежал к числу последних.
Долгожданное переселение в новое жильё происходило в чудесное время года, когда буйно цвела черемуха и тусклый городок, утопая в зелени, преображался. По вечерам ласково дул тёплый ветерок, воздух наполнялся благоуханием, а лёгкий шум шелестящей листвы таинственно нашёптывал сквозь насыщенный ароматами воздух о чём-то сладостном и манящем. И от этого шёпота и дурманящего воздуха у молодых лейтенантов учащался сердечный ритм. Весна искушала соблазнами и будоражила горячую кровь. Ещё бы – ведь вокруг появлялось столько коротких юбок! А к лету их количество в городе заметно возрастало. Некоторые девушки учились в крупных городах и возвращались домой на каникулы. Другие просто приезжали в гости к родственникам. Иной раз молодому лейтенанту хотелось привести девушку в гостиничный номер, но это, как скоро выяснилось, оказалось делом мудрёным. Жизнь провинциального городка диктовала свои правила существования. С одной стороны, здешние барышни стремились сойтись с каким-нибудь офицером – выйти замуж за военного считалось большой удачей. С другой стороны, им приходилось вести себя осмотрительно, чтобы не давать пищу злым языкам, – молва не щадила представительниц прекрасного пола, посетивших офицерскую гостиницу. Среди местных девушек это считалось позором. И отнюдь не потому, что они были слишком целомудренны. Многие из них предпочитали номеру гостиницы загородные кусты. Провинциальный менталитет доминировал над здравым смыслом. Примечательно, что в первые дни после сдачи гостиницы были случаи, когда некоторые не в меру отчаянные девицы по вечерам проникали в номера через окна первого этажа, взобравшись на плечи своих ухажеров. И это лишь ради того, чтобы избежать любопытных глаз и особенно встречи с дежурной, которая завтра непременно поделится со знакомыми своими наблюдениями. Однажды проникновение таким способом нескольких девиц в гостиницу не прошло незамеченным, дежурная стала стучаться в двери и устроила скандал. Девушкам пришлось тем же путём спешно ретироваться. Но слух о происшествии стал быстро распространяться и обрастать красками. Снежный ком покатился, сплетни начали приобретать яркие оттенки. Уже рассказывали, как дежурная врывалась в номера и заставала обнаженных девиц в сладострастных позах, а тем приходилось, прикрывшись простынями, хватать впопыхах одежду и с визгом выпрыгивать из окон. И пошли после этого про гостиницу слухи о том, что, мол, молодые лейтенанты заманивают туда девушек и устраивают в номерах оргии. Тема особенно привлекала молоденьких девчонок, которые при упоминании об офицерской гостинице начинали переглядываться и хихикать. А после нашумевшего случая за ней устойчиво закрепилась репутация о месте, где ставят клеймо молоденьким девушкам. Так что пройтись барышне в сопровождении молодого лейтенанта мимо дежурной считалось верхом неприличия.
Номера офицерской гостиницы, за исключением двух «генеральских», были стандартные: с двумя кроватями, умывальником, двустворчатым шкафом и довольно вместительной антресолью. Однополчан селили вместе или в соседние комнаты, чтобы в случае объявления учебной тревоги посыльным не пришлось искать их по этажам. По этой причине меня поселили в номер с лейтенантом Станиславом Дукасом, врачом и тоже двухгодичником. Он исполнял обязанности начальника медпункта нашего батальона.
Моему соседству Слава искренне обрадовался. Человек он был своенравный и на редкость остроумный. Лёгкость в общении и исключительная коммуникабельность в нём сочетались с иронией к людям и умением держать их на расстоянии. Я чувствовал его доброжелательное ко мне отношение и сам испытывал к нему симпатию, однако к нашему соседству в одном номере отнёсся с некоторой настороженностью.
Дело в том, что Дукас, к сожалению, спивался. День у него начинался с утреннего похмелья, а к вечеру Слава обычно бывал пьян. На службу он являлся позже всех офицеров и, разумеется, уже навеселе. Острослов с прекрасным чувством юмора, он всюду возбуждал к себе интерес, разгонял скуку и привносил оживление. Там, где Слава появлялся, вскоре раздавался дружный смех. Он обладал способностью обнаруживать в предметах, явлениях, людях некие грани, которых не замечали другие. Его саркастические реплики часто кусались, и некоторые офицеры не без основания побаивались острого языка Дукаса. Его анекдоты и комментарии неизменно сопровождались смехом слушателей, между тем как те же фразы в устах другого человека такой реакции не вызывали. Юмор – явление загадочное.
Был у нас в батальоне секретарём комсомольской организации прапорщик Кравцов. Шуток он не понимал. Не реагировал даже на самые, казалось бы очевидные. Видимо, ген, отвечающий за юмор, у бедняги отсутствовал. Когда он узнал, что я не состою в комсомоле, впал в отчаяние, не мог поверить.
– Как? Не может быть! Вы же учились в вузе! Вы офицер Советской Армии! Может, потеряли комсомольский билет? Так мы новый выпишем, – говорил он мне.
Кравцов несколько дней ходил за мной по пятам, просил написать заявление о вступлении в комсомол. Наконец я придумал, как остановить его преследование, сообщил, что собираюсь вступить в партию.
– Но это невозможно! Вы даже не комсомолец.
– Возможно, – сказал я и, понизив голос, доверительно сообщил: – мои дела уже рассматриваются в штабе дивизии.
– Вы не шутите?
– Разве такими вещами шутят? – произнёс я укоризненно.
Он понимающе кивнул.
По территории части Кравцов передвигался стремительной походкой, обычно с какими-то бумагами, озабоченным лицом и острым ощущением всей тяжести возложенной на него миссии. Однажды его за руку остановил Дукас и спросил:
– Напомни, какой рукой честь отдают?
– Правой… – ответил тот машинально.
– А левая на что?
Кравцов на несколько секунд задумался, потом догадался:
– Ты шутишь?
– А ты не так уж безнадежен, – сказал Слава.
– В каком смысле?
– В медицинском.
– Не понял?
– Заходи на обследование.
Кравцов ушел озадаченный.
Авторитетов Дукас не признавал, субординации не соблюдал, начальству дерзил. Словом, позволял себе неслыханные для младшего офицера вольности. Можно сказать, привилегией врача-двухгодичника, пренебрегающего военной карьерой, пользовался в полной мере. За это ему так и не присвоили звание старшего лейтенанта. Он, разумеется, не переживал. В зависимости от ситуации и количества выпитого Слава мог быть миролюбиво добродушным или пугающе агрессивным. Впрочем, пьянство Дукаса особого неприятия у начальства не вызывало. Комбата больше раздражало его наплевательское отношение к дисциплине. Вообще в армии к пьянству относились снисходительно. А что оставалось делать? Как с ним бороться, если явление, можно сказать, неискоренимо?
Рядом с нашим батальоном располагался танковый полк, которым командовал свирепый подполковник, этакий мордоворот с крутым нравом. Одно его появление вызывало дрожь у подчиненных. Однажды, обходя утром построенный на плацу полк, он обнаружил отсутствие командира одного из батальонов.
– Почему не вижу командира? – гаркнул подполковник.
Вышел вперёд заместитель комбата и дрожащим голосом начал:
– Товарищ подполковник, вчера… – и тут он, понизив голос, осторожно продолжил, – отмечали, по случаю новоселья… с утра страдает, не в состоянии…
Свирепое лицо подполковника приняло сочувственно-проникновенное выражение:
– Тяжко ему, говоришь?
– Тяжко, – подтвердил заместитель комбата, кивая.
– Ну, пусть, пусть полечится… но чтобы завтра как штык! Ясно?
– Так точно, товарищ подполковник!
Против пьянства были бессильны даже грозные женсоветы с воинствующими жёнами офицеров и прапорщиков, которые устраивали своим мужьям головомойки почище судов офицерской чести. На холостого Дукаса это, естественно, не распространялось, однако женатые офицеры страдали. Старшина нашей роты прапорщик Коркушко называл женсовет по-японски – суки сами. Он умел находить разным названиям остроумные эквиваленты из матерных слов. Однажды Дукас спросил его:
– Твоя жена – член женсовета?
– Она исправно ходит на все собрания суки сами, – ответил Коркушко, – ни одного не пропустит. Знаешь почему? Не потому что я пью, а потому что ждёт, что приду вечером злой и изнасилую её за это.
– Да ты орёл, Мокрушко!
Славе нравилось коверкать фамилию старшины. Коркушко не обижался, он вообще ни на что не обижался. Это был человек исключительно легкий и бесконфликтный, с веселым нравом. Внешне полноватый, с откормленными щеками и игривыми глазами, он любил шутку, умел хохотать до слез и обладал редко встречающимся качеством – самоиронией. От его торопливой речи уже становилось смешно, к тому же он немножко шепелявил. Когда у Коркушки родилась вторая дочь, я его поздравил, затем самонадеянно сказал:
– Знаешь, как называют тех, кто одних девочек строгает?
Ответ последовал обескураживающий:
– Раз ты мастак, приходи вечером ко мне и попробуй. Если у тебя получится мальчик, попьём пивка за мой счёт.
В довершение сказанного – старшину звали Владимир Ильич.
На бумаге борьбу с пьянством в армии вели, разумеется, непримиримую, а на деле бархатно-мягкую, с осознанием неизлечимости болезни. Но формально какие-то меры против этого недуга должны были применяться. И вот замполит нашего батальона, мужик недалёкий, который тоже был не прочь иногда поддать, решил побеседовать с Дукасом на эту тему по-отечески. Сел с ним в курилке на лавочку и стал говорить, как после оценил его речь Слава, пошлости. В частности, вещал он о нравственном облике советского офицера, о его ответственности перед товарищами, о необходимости радеть за честь батальона и далее в том же духе. Поведение Дукаса замполит назвал безответственным и закончил торжественно:
– Порядочный офицер не должен так себя вести!
На что Слава сказал:
– А вы попробуйте.
Замполит опешил:
– Что попробовать?
– Быть порядочным.
Если бы в этот момент у замполита оказался пистолет, думаю, он пристрелил бы Дукаса. А Слава спокойно и с любопытством наблюдал, как человек впадает в бешенство.
С комбатом отношения у Дукаса сложились устойчиво антагонистические – оба друг друга возненавидели.
– Этот психопат хочет меня заставить вовремя приходить на службу, – возмущался Слава, – мозгов не хватает понять, что я не служака, что приличному человеку прежде надо опохмелиться.
Пару раз комбат сажал его на гауптвахту, затем перестал.
– Во подлец! – говорил он про Дукаса, – умудряется гауптвахту превратить в санаторий. Ему женщины туда посылки шлют!
Однажды подняли нас по тревоге в шесть утра и повезли на стрельбище. Офицерам выставляли оценки по стрельбе, и в соответствии с полученными результатами выводились показатели в целом по батальону. Славе пришлось ехать не похмелившись. Можете представить, какая это была для него пытка. В машине он начал брюзжать:
– Подняли ни свет ни заря, везут на какие-то б… стрельбы… не наигрались в войну, засранцы…
Всю дорогу он изнывал, а когда прибыли на место, комбат велел ему оставаться в машине и не высовываться. Кому-то из офицеров было поручено стрелять вместо Дукаса.
– Испортишь дрожащими руками наши показатели, алкаш хренов! – рявкнул на него комбат.
– Боится, гад, что пристрелю его, – буркнул Слава.
Показатели нашего батальона неожиданно оказались лучшими в дивизии. По возвращении в часть комбат построил офицеров и поблагодарил всех за высокий процент попадания в цель. И вдруг послышался голос Дукаса из строя:
– А что им не попасть, коли все трезвые.
Даже комбат расхохотался.
Женщин Слава предпочитал исключительно замужних – заводил связи преимущественно с офицерскими жёнами и, как правило, заметно старше себя. Ему даже удалось привести женщину в офицерскую гостиницу. Такой трюк в среде молодых лейтенантов считался высшим пилотажем. О похождениях Дукаса ходили слухи. В частности, упоминали жену одного майора из танкового полка, а через некоторое время стали говорить о его сожительстве с женой капитана из того же полка. Слухи распространялись быстро. Женский персонал батальона называл его бабником, мужчины употребляли более точное словцо. Даже комбат однажды после окончания офицерского совещания решил в шутку завести с ним разговор на эту тему:
– Говорят, ты ходок. Поимел всех офицерских жён танкового полка, теперь к нашим жёнам подбираешься?
Дукас ответил в своей манере:
– Можете не беспокоиться, ваша жена не в моём вкусе.
Сначала мне казалось, что Слава сам распространяет о себе слухи. Он мог по пьяной лавочке рассказать любую небылицу. Убедительно и красочно. Но однажды он явился в гостиницу с разорванной губой и переливающимся лиловым фингалом под глазом.
– Что случилось? – спрашиваю.
– Это животное, эта невежественная скотина сломала мне ребро!
– Кто?
– И это вместо благодарности! Представляешь? Мало того, что я добросовестно исполняю его функции…
– Чьи функции?
– Этого недоумка, который, забыв о супружеском долге, неделями колесит по полигонам, затем неожиданно является, когда я в поте лица выполняю его обязанности, в самый, можно сказать, ответственный момент и лезет на меня с кулаками. Где справедливость? Жену избил! Животное! Мне кажется, ревность присуща только убогим. Бедная женщина! Я намерен навестить её и утешить.
– Рискуешь быть окончательно изуродованным.
– Как благородный офицер я не могу поступить иначе, не могу оставить женщину в длительном томлении. Наконец, как врач я просто обязан утолить её сексуальную жажду.
– Как врач, – говорю, – ты бы лучше позаботился о своём здоровье и победил эту пагубную страсть к водке. Я тоже люблю выпить под хорошую закуску, но есть предел, после которого просто тошно.
– Ты говоришь банальности.
– Больно видеть, как ты спиваешься.
– Не будь занудой.
– Дело твое.
Был такой случай. В актовом зале дома офицеров собрался весь офицерский корпус дивизии. Отмечали, кажется, День Победы. В буфете продавали спиртное, бутерброды с ветчиной, сыром и пирожные. Вход был увешан шарами и флагами. На улице играл духовой оркестр. На сцене в три ряда сидели командиры воинских частей. Собрание должно было вот-вот начаться. Наш комбат опаздывал. Наконец, запыхавшийся, он вошел в зал и направился в президиум, чтобы занять своё место. На полпути неожиданно остановился, снял фуражку (заметив, что члены президиума сидят без головных уборов) и стал оглядываться по сторонам, кому её отдать. Рядом со мной ближе к проходу сидел лейтенант Иванчук из нашего батальона. Комбат быстро подошёл к нему и вручил фуражку:
– Держи до конца собрания, – сказал он и быстрым шагом направился к сцене.
Когда уже все расселись, и воцарилась относительная тишина, а командир дивизии уже направился с папкой к трибуне, в зал вальяжной походкой вошёл Дукас. Он улыбался, что свидетельствовало о его приподнятом настроении, вернее о том, что определенную дозу спиртного он уже принял. Слава подошёл к нам и стал смотреть, нет ли вблизи свободных мест. Заметив в руках Иванчука две фуражки, хмыкнул:
– Собираешься милостыню просить? Думаешь, двумя фуражками больше наберёшь?
– Одна не моя. Комбат просил подержать её до конца собрания, – опрометчиво выдал Иванчук.
– Которая фуражка комбата?
– Эта, – показал он и с недоумением посмотрел на Дукаса.
То, что произошло в следующий момент, было настолько неожиданно, что мы с Иванчуком опешили и на несколько секунд онемели. Слава набрал в легкие воздуха и вдруг, нагнувшись над фуражкой комбата, густо и смачно плюнул в неё. Затем он выпрямился и спокойно направился к свободному креслу, продолжая улыбаться. На лице Иванчука появился ужас. Мы оба уставились на фуражку комбата, на дне которой блестела мутноватая лужица. Иванчук повернул ко мне испуганное лицо. Он выглядел растерянным и беспомощным.
– В буфете есть салфетки, – подсказал я.
Командир дивизии уже читал свой доклад, когда Иванчук вскочил с места и побежал к выходу, держа в руке фуражку комбата. Минут через десять он вернулся и, уже несколько успокоившись, шепнул мне:
– Следа почти не осталось… Что ты смеёшься? По-твоему смешно? Убью гада!
Слава тайком носил мою одежду – брал вещи, которые я редко надевал. Как-то раз, перебирая свои вещи в шкафу, я заметил следы грязи на рукаве куртки, манжете рубашки и штанине брюк и не мог вспомнить, где и когда их испачкал. Вскоре посягательство Дукаса на мой гардероб обнаружилось. Произошло это на улице. Я увидел его в обществе молоденькой симпатичной девушки, по всем признакам приезжей. Местных девушек Слава не очень жаловал. Он стоял спиной ко мне и что-то увлеченно рассказывал. Она кивала ему очаровательной головкой и улыбалась той детской непосредственной улыбкой, которая у взрослых вызывает умиление. Естественно, девушка привлекла моё внимание, и я даже не сразу заметил, во что был одет Слава. Только подойдя к ним ближе, я узнал на нём свои вещи. Брюки оказались ему немного коротковаты (он был чуть выше меня ростом), но куртка и рубашка пришлись впору.
Я остановился в двух шагах от них в ожидании, когда Слава меня заметит. Но он был слишком увлечён собеседницей. И лишь когда она посмотрела в мою сторону, он обернулся ко мне. Увидев меня, Слава даже не смутился, произнёс нечто хамовато-старорежимное:
– Ступайте, сударь, нечего пялиться на девушку.
Мне пришлось отреагировать:
– Я ведь, сударь, могу потребовать сатисфакции.
Слава улыбнулся:
– Потребуешь, только после, а сейчас, пожалуйста, исчезни.
Ладно, думаю, черт с тобой, но шмотки мои, наглец, больше носить не будешь.
Примерно через час он явился в гостиницу. Войдя в номер, Слава, не раздеваясь, плюхнулся на кровать и с загадочной улыбкой уставился в потолок. Что-то таинственно новое появилось в блеске его глаз. Никогда раньше я не видел его в таком, я бы сказал, созерцательно блаженном состоянии. Минуты две он молчал. Не скрою, я был заинтригован и с любопытством за ним наблюдал. Наконец он начал выплёскивать свои эмоции:
– Ты не представляешь, что за прелесть эта Анечка! Ей всего девятнадцать, а она уже много знает, а главное – слушает, реагирует, понимаешь, старик, правильно реагирует! Это ж такая редкость! А какой юмор, какая улыбка, голосок! Ты не поверишь, я сегодня практически не пил, готовился к встрече.
– Давно её знаешь?
– Сегодня была наша вторая встреча, вернее третья. В этой дыре встретить такую девушку! Я о таком даже мечтать не мог. Местные девицы, сам знаешь, все какие-то странные, или зажатые и ограниченные с кучей комплексов, или наоборот – развязные дуры. Уж лучше шашни с офицерскими жёнами. Вокруг одно убожество. И вдруг – Анечка! Словно инопланетянка. Первая наша встреча была случайной, короткой. Я увидел её в переговорной на почте. Сидит незнакомка, милая такая, видно, что не местная. Не помню, с чего я начал, сказал какую-то чушь. Смотрю – отвечает. Причём без жеманства, естественно, не кокетничает, не говорит глупости, просто улыбается. Я даже протрезвел, веришь? Она из Киева, приехала к родственникам по семейным делам. Знаешь, при ней со мной происходит что-то странное, вроде выздоровления после длительной болезни. В детстве, помню, болел ангиной, тяжело болел, высокая температура держалась несколько дней, думал – умру. На пятый день проснулся после долгого сна абсолютно здоровый. Сразу захотелось пожрать и поиграть в футбол. При виде Анечки я словно выздоравливаю, как после той ангины, хочется жить, слушать её голос, смех, видеть её улыбку. При ней я обо всем забываю, появляется вдохновение, уверенность, но после… всё думаю, думаю… в сущности, что я для неё? Почему она согласилась на свидание со мной? Два раза! Не знаю, даже странно. Знаешь, мы ведь с ней никуда не заходили, сидели в парке, гуляли по этим убогим улочкам, только общались… Завтра утром она уезжает. Я хотел проводить её, но… с ней будут родственники. Я родственников не люблю… Анечка пригласила меня в Киев…
– Поедешь?
– Обязательно поеду. На следующей неделе. Даже если эта сука комбат не разрешит.
– И пить бросишь?
– Да, брошу, вот увидишь.
Помолчали. Затем Слава медленно поднялся и стал снимать с себя мои вещи и вешать в шкаф.
– Ты можешь носить их в Киеве, – сказал я.
Он хитро улыбнулся:
– А как же твоё требование сатисфакции? Передумал? Спасибо тебе, конечно, за понимание, но ты, пожалуйста, не унижай меня. Я в состоянии купить себе одежду. Просто некогда было этим заняться. Вот в Киеве и куплю. А моё старьё пора выкидывать. Мне не хотелось в нём встречаться с Анечкой.
Мы с ним в этот вечер допоздна беседовали за шахматной доской. Он в шахматы играл неплохо, но в этот раз проигрывал, был невнимателен и расслаблен, зато выглядел довольным и умиротворённым, строил радужные планы на будущее. Его благостное состояние передавалось мне, приятно было видеть Славу трезвым и счастливым.
На следующий день он вовремя вышел на службу. Не пил. Я его подбадривал:
– Так держать! Собираешься говорить с комбатом о поездке в Киев?
Слава улыбался:
– Рано ещё, пару дней подожду.
Правильно, думаю, прежде надо закрепить свой новый имидж. Через пару дней он, прежде чем говорить с комбатом, решил услышать голос Анечки. Пошёл на почту заказывать переговоры, но скоро вернулся.
– Поговорил? – спрашиваю.
– Нет. Дошёл до почты, повернул обратно. Не знаю, что со мной произошло… не решился. Не могу я говорить с Анечкой, не видя её лица, её улыбки. Лучше пусть моя поездка будет для неё сюрпризом.
Голос у Славы почему-то дрожал, и выглядел он растерянным и сникшим. Странно было видеть его таким подавленным. Всегда уверенный в себе ироничный Дукас, который за словом в карман не полезет, который своим острым языком готов размазать кого угодно, вдруг «не решился» или попросту струсил. Но чего он испугался? Я догадывался «чего», чувствовал какая идёт у него внутренняя борьба, как она изматывает ему душу. Я видел, какой он приходил по вечерам, – трезвый и уставший от этой изнуряющей внутренней борьбы.
Мне хотелось поддержать и подбодрить его, и я сказал:
– Конечно, ты прав. Лучше поехать без звонка. Позвонишь из автомата, где-нибудь рядом с её домом. Чтобы встреча произошла сразу. Это будет даже эффектно.
– Ты меня понимаешь, – улыбнулся Слава.
На следующий день после службы мы с друзьями ужинали в ресторане, я вернулся в гостиницу поздно, около часу ночи. В холле меня остановила дежурная:
– Помогите своему приятелю добраться до койки.
– Кому? – я не сразу сообразил, о ком речь, но потом спросил: – Где он?
– Лежит на лавке возле площадки за гостиницей.
Площадка эта не освещалась, и увидеть ночью человека, лежащего на лавке, было трудно. Скорее всего, кто-то сообщил дежурной, что Слава там лежит. Фуражка валялась на земле, он спал, обняв лавку с обеих сторон. Разбудить его удалось с трудом. К сожалению, это не помогло, мои попытки поставить его на ноги оказались тщетными. Пришлось тащить Славу на себе.
– А… дружище… – бормотал он за моей спиной, – знаю… думаешь, я трус… да?.. трус?.. ты ведь так думаешь?
– Ты не просто трус.
– А… ну давай… конечно… давай свою… нравственную оплеуху… молчишь?.. знаю, что ты хочешь сказать… что я… безвольное говно… так?
– Я устал тебя нести. Может, ты сам пойдёшь? Я тебя поддержу.
– Разумеется, сам… но ты скажи… я безвольное говно?
– Ты предал Анечку и самого себя.
Я поставил Славу на ноги и на мгновение опрометчиво отпустил. Он рухнул на землю. Пришлось снова его поднимать и тащить на себе.

