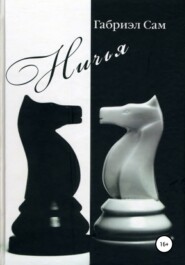 Полная версия
Полная версияНичья
– Вот к чему приводят ваши необузданные выходки! Отвечать будут родители! – вынес он суровый приговор, грозя нам пальцем.
Машину мы еле оттащили от дерева и с трудом подогнали на исходное место – колёса руля уже не слушались. Затем стали восстанавливать забор. Едва успели накрыть искорёженный виллис брезентом, как Алика позвали домой. Мы в испуге стали его уговаривать:
– Ты сегодня никому не говори. Слышишь? Завтра отец приедет, тогда и скажешь. Понял?
– Понял, – хныкал он, утирая слёзы.
Наш расчёт был на то, что когда отец Алика завтра обо всём узнает, наши родители, вероятнее всего, будут на работе. Это, конечно, не смягчит суровое наказание, но хотя бы отсрочит.
На следующее утро мы стояли возле изуродованной машины, покаянно опустив головы, а отец Алика поносил нас на чём свет стоит:
– Сукины дети!.. Вы что натворили?! Варвары! Уроды! – распалялся он. – Что мне теперь с ней делать? Я вас спрашиваю!
– Но ведь она ржавая до дыр… – тихо пробубнили мы.
– Мозги у вас ржавые! Идиоты!.. Кто мне заплатит за ущерб?
Тут Алик, у которого левое ухо было заметно краснее правого, неосторожно обронил:
– Ты же говорил, машина тебе даром досталась…
Мы переглянулись и хмыкнули.
– Охламон! – взбесился отец и дал сыну подзатыльник. Затем обратился к нам: – Я буду говорить не с вами, балбесами, а с вашими родителями.
Разбитый виллис стоял под брезентом недели две. Потом его автогеном разрезали на части и куда-то на грузовике увезли. Отец Алика, к счастью, так и не обратился к нашим родителям, но о том, что мы отчебучили, все в доме знали уже на второй день.
Иногда летним вечером приезжал на машине киномеханик с аппаратурой и крутил во дворе кино. Это событие происходило редко, внося оживление в привычную атмосферу дома. Жильцы высыпали во двор со своими стульями, устраивались рядами перед экраном и под шум трескучего проектора смотрели кино. А когда во время просмотра в ближайшем окне вдруг загорался свет, раздавались возмущённые голоса: «Просили же не включать!» В такие минуты что-то трогательно домашнее объединяло соседей, словно собралась на праздник большая семья из нескольких поколений.
Закрытый с четырёх сторон двор будто изолировался от остального мира. Здесь текла своя захватывающая детская жизнь. Она, как мне тогда представлялось, резко отличалась от той, что происходила за пределами двора, которая казалось чужой, неинтересной и даже малоприятной. В доме жила разношёрстная детвора со старшими братьями, сёстрами, родителями, бабушками и дедушками. В пятидесятых годах редкая семья имела возможность жить в отдельной квартире. Это считалось роскошью. Подавляющее большинство семей ютилось в коммуналках. Многодетные семьи могли занимать две комнаты в коммунальной квартире, но чаще даже они жили в одной. Наша семья, состоящая до рождения моей младшей сестры из пяти человек (родители, бабушка, старшая сестра и я), жила в двадцатичетырёхметровой комнате несколько лет. Положение изменилось, когда отцу за определённые заслуги по работе дополнительно выделили однокомнатную квартиру, которую пришлось обменять на соседнюю двадцатиметровую комнату. А до тех пор её занимала семья из четырёх человек: супруги с двумя дочерьми примерно нашего с сестрой возраста. Но мы, дети, в комнатах не любили находиться. Благо общий балкон со стороны двора был достаточно просторный. И всё же днём большую часть времени мы проводили во дворе. А где ж нам оставалось быть, когда в доме тесно, а во дворе так интересно? Сама атмосфера двора притягивала. А сколько детей! Ведь даже в цокольных этажах жили семьи. В те годы семьи с тремя детьми не считались многодетными и не являлись редкостью, наоборот, они преобладали. В нашем доме жила лишь одна семья, которую мы называли многодетной, потому что в этой семье было восемь детей. Самый младший среди них, помнится, уступал по возрасту своему племяннику.
Детей нельзя было удержать дома. До позднего вечера слышались голоса родителей, зовущих своих отпрысков:
– Ну, сколько можно?! Скоро десять!
А нам всё было мало. Под вечер атмосфера двора приобретала особый шарм – начинались игры с участием девочек. Днём мы с ними не водились. Они играли в свои классики, скакалки, камушки и прочие, как мы называли, девичьи игры, в которых мальчишки, как правило, не участвовали. У нас были свои интересы. Например, нам было очень любопытно, что произойдёт с бутылкой, если затолкать в неё кусочки карбида, залить водой и закрыть пробкой. Она взорвётся или только пробка выстрелит? Или игра в ножик на испытание, пройти которое не каждому было по зубам. Сама незамысловатая игра включала десять ступеней бросания ножа с нарастающей сложностью. А испытание заключалось в том, что проигравший должен был проползти в темноте без фонаря через узкий подземный ход к глухо закрытому помещению газоубежища, расположенному в подвале нашего дома, и чем-то металлическим сильно ударить по его тяжёлой железной двери. Можете представить, какой при этом раздавался жуткий звон под землёй, если снаружи был хорошо слышен отдающийся эхом страшный гул! Подземный ход представлял собой узкий бетонированный тоннель, служащий для газоубежища запасным выходом. Длина хода составляла примерно
15 метров. Он завершался во дворе небольшим бетонным домиком, похожим на конуру большой собаки, с гладкой покатой крышей. По тоннелю можно было двигаться только ползком, причём развернуться в столь тесном пространстве почти не представлялось возможным. Но мы ухитрялись это делать, туго свернувшись калачиком. Первый раз проползти в кромешной тьме до железной двери и суметь развернуться в тоннеле – значило пройти боевое крещение. Процедура служила у нас своего рода проверкой на вшивость.
Однако в ножик мы чаще играли на щелбаны. Проигравшему щелбаны наносились зверские. Ребята наловчились это делать с такой силой, что у того, кто подставлял голову, летели искры из глаз.
Была ещё одна знаменитая игра – в ремни. На асфальте чертился большой круг, в котором по радиусу клали кожаные ремни от штанов. Играли две команды от трёх до пяти человек в каждой. Столько же клали ремней. Согласно жребию одна команда оставалась внутри круга без права покинуть его, а вторая – вне круга без права вхождения в него. Первая охраняла ремни от второй, которая пыталась завладеть ими. Перед игроками внутри круга стояла сложная задача: одной ногой, не покидая его пределов, ухитриться другой достать ногу противника, когда тот пытается вытянуть ремень, или схватить его и затащить внутрь круга. Если это кому-то удавалось, команды менялись местами. Если же противнику везло больше и у него получалось завладеть ремнём, он начинал им выбивать другие ремни и хлестать по ногам тех, кто находился внутри круга и пытался этого не допустить. Правила позволяли бить только по ногам и не разрешали игрокам внутри круга трогать ремни или наступать на них. Нередко они оказывались в тяжелом положении, особенно если противнику удавалось выбить все ремни. Тогда начиналось избиение их ремнями, пока не удавалось схватить кого-то из стана противника и затащить внутрь круга. Домой после этого мы являлись с синяками на ногах, и не всегда получалось скрыть их от матерей. Они категорически запрещали нам играть в эту «дурацкую и жестокую» игру. Но отказаться от неё означало потерять у ребят уважение к себе, что для настоящего пацана было хуже смерти.
И всё же самое большое место в нашей дворовой жизни занимал футбол, несмотря на часто устраиваемые жильцами скандалы из-за разбитых стёкол. Мы не уставали играть в футбол и нырять в бассейн, чередуя эти занятия целый день.
Я в детстве вообще не знал, что такое усталость. У меня на этот счёт сложилось твёрдое убеждение, что люди устают только на работе. Хотя до конца постичь, почему это происходит, я не мог. Мне казалось, что взрослые, говоря об усталости, подчёркивают свою значимость, и я даже верил, что человек работает много, потому что он в своей области незаменим.
В пору созревания фруктов у нас появлялось ещё одно любимое занятие – несанкционированный сбор плодов (преимущественно ещё зелёных) в близлежащих фруктовых садах. Я уже упоминал о том, что летом мы выбегали во двор в трусах и майках. Разумеется, можно было ходить в одних трусах, без майки, и это в жару даже комфортнее, тем более что во дворе майка сразу снималась и до поры вешалась на ветку дерева, либо бросалась в кусты. Но она не была лишней. Майка, заправленная в трусы, превращалась в ёмкий карман, куда можно было спрятать массу вещей. В частности, рогатку, перочинный нож, велосипедный ключ, небольшую трубку, из которой можно было стрелять шариками хлебного мякиша, наконец, что-то съедобное, да мало ли что. А когда мы осуществляли набеги на соседние сады, майка приобретала первостепенное значение. Действительно, куда ж ещё прятать ворованные из чужого сада плоды, если не за пазуху. Летом набеги на сады производились нами довольно часто, но требовали предельной осторожности – у каждого сторожа имелась увесистая палка. Сторожа хоть и были, как правило, люди пожилые, им, естественно, не угнаться за девятилетним мальчишкой, но палками своими они владели виртуозно. Иной раз незадачливому воришке приходилось долго сидеть на дереве и выслушивать ругань сторожа, который, размахивая палкой, пытался достать его, а то и грозился привести за руку домой и оштрафовать родителей. Последняя угроза производила должное воздействие и порой даже доводила мальчугана до слёз. Но стоило сторожу чуть отвлечься (для этого у нас были заранее отработанные приёмы), как воришка спрыгивал с дерева и был таков. Помню случай, как однажды сторожу удалось-таки поймать одного из налётчиков, прихватившего солидный куш.
Произошло это в парке, расположенном напротив нашего дома. Он был огорожен решётчатым деревянным забором, а внутрь пропускали только по билетам, которые продавались в кассе у центрального входа. В парке имелась летняя эстрада с деревянным амфитеатром, были также рестораны, кафе и танцплощадка, где по вечерам играл оркестр. Словом, это было место культурного отдыха горожан. Мы с друзьями тоже иногда проникали туда, но, разумеется, не по билетам и отнюдь не для праздных развлечений. Мы лезли через забор исключительно за абрикосами, алычой и миндалём. Они росли здесь задолго до того, как на этой территории был создан парк. Домик сторожа находился недалеко от атакуемых нами фруктовых деревьев и хорошо был виден сквозь решетчатый забор тому из нас, кто стоял на стрёме. Так что в минуту опасности нас всегда вовремя выручал тревожный клич «Атанда!»
Но однажды клич этот прозвучал, к сожалению, с опозданием. Услышав его, один из налётчиков едва успел спуститься с дерева, придерживая одной рукой раздутую майку с абрикосами, как вдруг перед ним неожиданно вырос тихо подкравшийся сторож и схватил его за руку. Остальным участникам набега, включая меня, удалось перемахнуть через забор и скрыться. Но скоро, оказавшись в безопасности, мы, в тревоге за судьбу нашего товарища, вновь тихо подкрались к забору и, припав к щелям, стали наблюдать за происходящим. Сторож крепко держал пацана за руку и, размахивая палкой, угрожал:
– Сейчас как огрею тебя по заднице! Будешь знать, сукин сын, как лезть сюда. Где твой дом? Ну-ка, быстро расскажи, где ты живёшь, ну! – сурово покрикивал он.
Мальчик жалостно съёжился, пугливо следя за движениями палки. Скоро под грозными окриками сторожа он стал тихо плакать, а на требование назвать свой адрес уже откровенно зарыдал и сквозь рыдания повторял, что больше никогда в парк не полезет. Сторож опустил палку, подвел бедолагу к сколоченному из грубых досок небольшому столу, установленному между деревьями, и строго потребовал:
– Ну-ка, вываливай всё, что украл.
Мальчик высыпал из майки зелёные абрикосы и сразу перестал плакать в надежде, что, оставив награбленное добро, получит свободу. Но не тут-то было.
– Вон сколько нарвал! – возмущался сторож. – Они же зелёные, ещё до половины своего роста не дошли! Не жалко? Я тебя спрашиваю, стервец ты этакий, – продолжал он, тыча пальцем в голову мальчика, – не жалко?
Бедняга снова начал всхлипывать и говорить, что больше не будет.
– Если б они хотя бы спелые были, – продолжал сторож. – Как эту зелень можно есть? Что молчишь? Я тебя спрашиваю! Вот ты мне сейчас покажешь, как это едят. Ешь!
Мальчик поднял на него глаза:
– Есть?
– Да, ешь, а я на тебя полюбуюсь. Давай!
Воришка принялся грызть абрикосы, опасливо поглядывая на сторожа, который с удивлением наблюдал, как тот один за другим поглощает кислые плоды. Съев уже штук десять (примерно треть того, что лежало на столе), мальчик виновато опустил голову и тихо прошептал:
– Больше не могу.
– Вот как? Воровать, значит, можешь, а есть уже не можешь? Зачем столько набрал?
Мальчик молчал.
– Отвечай!
– На весь день… на завтра…
– Запасливый, стало быть. Нет, разбойник, сейчас всё при мне съешь, ни одного не оставишь. Будешь меня вспоминать, когда тебя понос прихватит. Ешь!
Мальчик снова заплакал, взял со стола ещё один абрикос и стал медленно грызть, всё громче и громче всхлипывая.
– Перестань реветь! – строго сказал сторож, – слышишь? Хватит, говорю, хватит!.. Ладно, запомни сам и предупреди своих дружков, тех, что сейчас прячутся за забором: если кто ещё раз сунется сюда, сильно огрею палкой, возьму за ухо и отведу к родителям. Пусть ответят за воровство. Понял?.. Я тебя спрашиваю, понял?
– Понял, – промямлил мальчик.
– А теперь иди!.. Нет, постой, – и сторож указал на стол, – забирай своё добро.
Мальчик угрюмо собрал оставшиеся абрикосы обратно за пазуху и зашагал в сторону забора.
– Ты куда пошёл? – остановил его сторож, – есть же выход, иди по тропинке.
Впервые один из нас вышел из этого парка не по проторенной дорожке, перемахивая через забор (для чего приходилось сначала взбираться на дерево, чтобы дотянуться до верхушки забора), а через арку центрального входа.
Конечно, подобного рода занятия не терпели участия девчонок. Но по вечерам нас к ним тянуло. И тогда начинались общие игры: волейбол, город за город, ловитки и другие. Но больше всего нам нравилась игра в прятки после наступления сумерек. В тёмное время суток игра эта обретала особую привлекательность. Можно было в каком-нибудь укромном месте оказаться с девочкой совсем близко или даже тесно прижаться к ней в темноте, якобы для того чтобы остаться незамеченным для водящего. Прятки привлекали ещё и тем, что являлись игрой демократичной, в том смысле, что с нами могли играть не только сверстники, но юноши и девочки старшего возраста. Однажды мне посчастливилось во время игры оказаться рядом с девочкой старше меня лет на пять, к которой я испытывал симпатию. Я попытался спрятаться за широкую дверь тёмного подъезда, когда она там уже находилась. Она сразу схватила меня за руку, притянула к себе и приложила пальчик к губам, мол, тихо, не шевелись. Я, разумеется, не шелохнулся и стоял, полный радости от того, что оказался с ней рядом. Мы пробыли в темноте довольно долго. Водящий уже успел всех обнаружить, кроме нас. Девочка держала меня за руку и тихо хихикала, радуясь тому, что он никак не может нас найти. Когда же он приблизился к двери, за которой мы прятались, она вдруг силой потянула меня вплотную к себе и замерла. Я прижался к ней, обнял её и чуть не задохнулся от счастья. В течение нескольких секунд я вкушал её запах и ощущал тепло её тела. В эти секунды у меня возникло страстное желание, чтоб это блаженство длилось вечно. К сожалению, водящий нас заметил, громко об этом всех оповестил, и счастье оборвалось. Девочка рассмеялась, быстро выскочила из-за двери и побежала за ним к ребятам. А я ещё некоторое время оставался стоять, медленно освобождаясь от обуявшего меня волнения.
Обычно игра в прятки становилась последней – после неё мы начинали расходиться по домам. Иногда допоздна оставались во дворе парни и девушки старшего возраста. Тёплый вечер не отпускал. В наступивших сумерках их тянуло пообщаться. Легкий ветерок, неизменно поднимающийся летними вечерами в городе, нежно ласкал свежестью после дневной жары. Его мягкие порывы распространяли пьянящие запахи цветов, и в этом щемящем душу воздухе под музыку шелестящей листвы неминуемо возникал контакт юных душ. Рождалась приятная атмосфера общения, которая неизбежно подталкивала к откровениям, пусть наивным и, возможно, опрометчивым, но бесконечно притягательным в нежном возрасте.
Однажды, когда почти все уже разошлись по домам, мы с приятелем решили задержаться во дворе, чтобы полакомиться персиками. Во дворе росли два небольших персиковых дерева, плоды которых никогда не доходили до зрелого состояния. Мы их съедали зелёными, преимущественно под покровом темноты, чтобы взрослые не видели. Угощали девочек. Каждому предоставлялась возможность таким способом выразить кому-то свою симпатию. Днём мы на такие действия не решались, поскольку могли нарваться на бдительных и ворчливых жильцов дома.
В тот вечер кроме нас во дворе оставалось ещё трое ребят примерно одинакового возраста, около четырнадцати лет. Они сидели на ящиках в тёмном углу двора, тайком курили и что-то тихо обсуждали. Мы находились поодаль и с нетерпением ждали, когда они уйдут домой. Нам хотелось провести операцию без свидетелей. Ребята были намного старше нас и могли просто не позволить срывать персики, так как мы этим сильно злоупотребляли, а плодов на деревьях оставалось уже мало. Но они, похоже, не собирались расходиться, продолжали своё обсуждение и поначалу не обращали на нас внимания. И вдруг все трое, как по команде, затихли и уставились на пожарную лестницу, ведущую на крышу дома. Затем один из них подошёл к нам:
– Вы что тут расселись? – начал он грубо, – вам давно пора домой. Ну-ка марш по домам!
Мы встали и нехотя поплелись в сторону нашего подъезда.
– Давай спрячемся и подождём, – шепнул мне приятель, – они всё равно скоро уйдут.
Мы незаметно прошмыгнули за небольшой бетонный домик запасного выхода газоубежища и, сидя на корточках, стали наблюдать за ребятами. Они встали, огляделись и быстро подошли к пожарной лестнице. Озираясь по сторонам и убедившись, что их никто не видит, ребята начали поочерёдно, подпрыгивая, хвататься за лестницу, подтягиваться и, взобравшись на неё, подниматься вверх. Дойдя до третьего этажа, они остановились и стали тянуться к одному из окон. Сюда выходили окна ванных комнат, расположенные по обе стороны от пожарной лестницы. Окно, в которое смотрели мальчики, относилось к квартире, где жили две сестры, привлекательные девушки-студентки с небольшой разницей в возрасте. Вероятно, одна из сестёр в это время находилась в ванной и, скорее всего, мылась. Такой вывод напрашивался, судя по тому, с каким вожделением и с какой жадностью ребята уставились в окно. Бедняжка не догадывалась о присутствии наблюдателей, а нам снизу было хорошо их видно в свете, падающем из ванной комнаты. Скоро один из них расстегнул ширинку и стал дёргаться. Он, похоже, не просто созерцал, но ещё кое-чем интенсивно занимался. И вдруг тот, который стоял ниже на лестнице, резко произнёс:
– Ты меня облил, идиот!
Трудно сказать, услышала эту реплику девушка из ванной комнаты или неожиданно заметила за окном наблюдателей, но оттуда вдруг раздался её пронзительный крик. Созерцатели среагировали мгновенно. Они на удивление быстро спустились, спрыгнули с лестницы и, нырнув в темноту, скрылись. Когда ребята исчезли, мы с приятелем встали, намереваясь быстро уйти от греха подальше. Но вдруг из подъезда выскочил отец девушек с фонарем в руке.
– Где вы прячетесь, сучьи отродья?! – заорал он.
Мы в испуге снова затаились за домиком и замерли. Мужчина стал рыскать по тёмному двору, освещая перед собой фонарём, и всё повторял:
– Ах, вы подонки! Ах, вы сукины дети!
Когда он оказался в дальнем углу двора, приятель шепнул мне:
– Давай спрячемся за кусты. Он нас там не найдёт.
Не успел я сказать, что лучше сидеть и не дёргаться, как он переметнулся через кусты, растущие в полутора метрах от бетонного домика, и залёг. Блуждающий по двору мужчина, видимо, уловил произведённый шорох и направился в нашу сторону. Если бы я последовал за моим приятелем, непременно произвёл бы такой же шум и наверняка усугубил бы наше положение.
Когда мужчина стал приближаться к бетонному домику, я в испуге съёжился и, затаив дыхание, пытался определить, с какой стороны он подойдёт ко мне. Шаги приближались и стали раздаваться слева. Я ещё чуть помедлил, чтобы он вплотную приблизился к домику и, улучив момент, тихо, по-кошачьи завернул за его угол и замер. Сердце у меня сильно колотилось, а душа, что называется, ушла в пятки. Мужчина посветил фонарём то место, где я минуту назад находился, затем бросил луч на густо растущие кусты, за которыми лежал ниц мой приятель. Не обнаружив его за плотной листвой, он пошёл дальше по двору, освещая фонарём закоулки. Через некоторое время после безрезультатных поисков он, наконец, зашагал в сторону своего подъезда, повторяя ругательства в адрес неведомых созерцателей. Мы с приятелем ещё несколько минут оставались неподвижными, прислушиваясь в тишине к его шагам. И только убедившись, что мужчина поднимается по ступеням подъезда, мы вышли из укрытия, без единого слова тихо проскользнули вдоль тёмной стены двора к нашему подъезду и стремглав пустились по лестнице домой.
Самым странным в этой истории могло показаться наше поведение: мы с приятелем вели себя так, словно были в чём-то виноваты. Мы действительно испытали сильный страх. Но чего боялись? Конечно, отец девушек мог заподозрить нас в непристойном подглядывании, но, откровенно говоря, такое нам даже в голову не могло прийти. И дело не в том, что мы не смогли бы дотянуться до пожарной лестницы, даже подпрыгивая, разве что одному встать на плечи другого. А в том, что хотя в девять лет мы, естественно, проявляли интерес к противоположному полу и даже влюблялись, но это происходило по-детски наивно и чисто, если угодно, возвышенно. В этом возрасте нет ещё того жгучего сексуального интереса к женскому телу, которое могло толкнуть нас на подобный поступок. В конце концов, если бы отец девушек нас обнаружил и пришлось бы держать ответ, мы могли бы откровенно объяснить, в каком положении оказались и что видели. Но именно этого мы опасались – выступить в роли свидетелей. Выдавать своих ребят – дело последнее. У нас во дворе такое не прощалось. Поэтому пришлось бы врать, изворачиваться и выдумывать, мол, кого-то видели, неизвестно кого, который спрыгнул с пожарной лестницы и убежал. Толком его в темноте не разглядели, но можем точно сказать, что он не из нашего дома. Этому, конечно, никто бы не поверил, и начались бы жуткие, изматывающие душу допросы взрослых с обещаниями строго наказать за враньё. А поскольку мы даже под пыткой не рассказали бы правду, всю оставшуюся жизнь нас считали бы лгунами.
Поздно вечером, уже лёжа в постели в тёмной комнате, я ещё чувствовал внутреннее напряжение от пережитого и думал о завтрашнем дне. Что если отец девушек затеет расследование? Начнёт допытываться у ребят, кто-де ушёл вчера вечером домой, а кто оставался во дворе допоздна. Интересно, как тогда эти трое поведут себя? Любопытно будет наблюдать за ними. Смогут ли они не выдать себя? А как они поступят, если пронесёт и расследование не даст результата или вовсе не состоится? Будут ли ребята скабрёзно делиться своими впечатлениями с другими? Скорее всего, не станут, это рискованно, ведь слух может дойти до отца девушек, и тогда им несдобровать. И всё-таки здорово, что нам с приятелем удалось остаться незамеченными, думал я. Мысли роем кружились у меня в голове, не давая заснуть. Но скоро они стали медленно куда-то удаляться и постепенно тонуть в доносившихся снаружи звуках вальса.
В соседнем парке играл духовой оркестр. По вечерам он звучал на танцплощадке, расположенной напротив наших окон. Через открытые окна в комнату вливалась до боли знакомая музыка. Я помнил почти все мелодии, исполняемые оркестром, мог насвистывать их безошибочно, хотя понятия не имел об авторах произведений. И когда сегодня вдруг звучит вальс Шостаковича или полонез Огинского, ассоциации уносят меня в далёкое детство, в то волшебное время, когда я засыпал в тёмной комнате с открытыми окнами, в которые лились эти мелодии. Меня тогда от этих дивных звуков охватывало сладостное волнение. Они словно обволакивали меня, и уже в полусонном состоянии мне вдруг начинало казаться, что только я один чувствую их прелесть. А те взрослые, которые сейчас танцуют на площадке, ничего в них не смыслят. Они – эти важные мужчины в белых рубашках и женщины в надутых юбках «солнце клёш», надетых поверх нижних юбок (для поддержания формы, как объясняла моя взрослая двоюродная сестра) – слишком заняты друг другом, чтобы слушать музыку. И порой мой детский эгоцентризм усугублялся до той крайности, когда мне казалось, что там, на площадке, кружатся не живые люди, а манекены, которые только притворяются живыми. Что оркестр, состоящий из таких же манекенов, только имитирует игру, а музыка льётся откуда-то сверху, разливается в пространстве и наполняет комнату исключительно для меня. И никто, кроме меня, её не слышит, потому что реально существую только я один. А всё, что меня окружает и вокруг меня происходит, – всего лишь иллюзия, плод моего воображения. Постепенно моё полусонное сознание, проникнутое этими странными мыслями, отключалось, и я, наконец, засыпал под звуки вальса, не подозревая, что подобные фантазии приходят в голову не только мне и чаще всего они посещают незрелые умы в юном возрасте.

