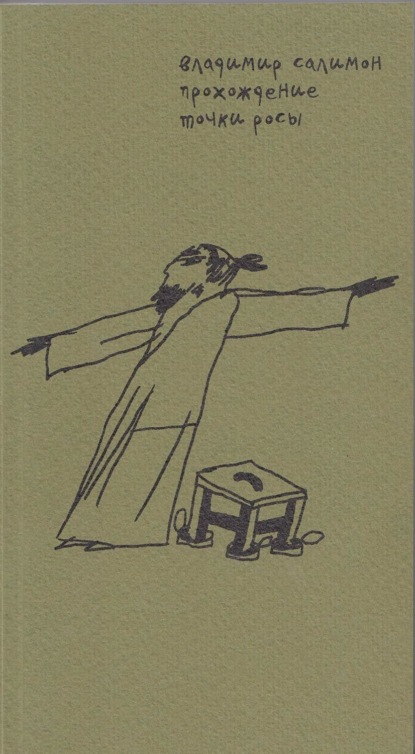 Полная версия
Полная версияПроисхождение точки росы
Поворот судьбы заметен.
Под прямым углом в меня
сук вонзившийся конкретен,
а не призрачен, друзья.
Вот валюсь я в снег глубокий,
выйдя ночью на крыльцо.
Пес бродячий, одинокий
жаром пышет мне в лицо.
Я-то думал – Ангел это
наклонился надо мной,
что с большим трудом поэта
спас от пули роковой.
***
Влюбленных пара подходила
на роль бандитской группировки.
Она задумчиво курила.
Он пил и пил без остановки.
Бонни и Клайда вероятность
здесь встретить кажется ничтожной,
но манит, манит безоглядность,
бескрайность красоты острожной.
Кого не встретишь средь вокзальной
толкучки – тут и леди Макбет,
и Гамлет из провинциальной
глубинки зубы вдруг осклабит.
***
Постоять на ветерке
вышел, чтобы продышаться,
человек в одном носке,
но не стали мы смеяться.
Мы сказали:
– Пустяки!
Для России это – норма.
Тут важнее, мужики,
содержание, чем форма.
***
Стали рожи протокольные
появляться тут и там,
будто бы мячи футбольные
залетать в ворота к нам.
Говоря, не все проиграно,
я хочу тебе сказать,
что все лучшее не издано
и не собранно в тетрадь.
Все живет по Божьей прихоти.
Разве по небу плывет
туча к чьей-то личной выгоде?
К чьей-то пользе снег идет?
***
Вот лес. Вот речка.
Дивный луг
их отделяет друг от друга.
Репей, татарник, вдруг бамбук
невесть с какого перепуга.
В толпе гудящей, словно рой
пчел диких, злобной, кровожадной
лицо знакомое порой
мелькнет терзаемого жаждой.
Случайно оказался он
среди бойцов на поле брани.
Тот, кто поэтом быть рожден,
всегда на волоске, на грани.
***
Столкнулись стрелки часовые,
как будто в море корабли,
как пароходы паровые,
что параллельным курсом шли.
Нет времени, но есть машина,
что крутит колесо Судьбы,
горько-соленая пучина
и пар клокастый из трубы.
Ужели все так безутешно,
и катастрофа корабля,
и гибель наша неизбежна,
и скорость вычислить нельзя?
***
У детей, на лавочке сидящих,
ноги не касаются земли,
будто бы у Ангелов парящих,
если б их увидеть мы смогли.
А пока придется нам поверить
на слово угодникам святым,
чтобы человека соразмерить
с Ангелом, которым он храним.
Большей частью Ангелы, как дети,
если их со взрослыми людьми
сравнивать,
и нет на белом свете
счастья больше, чем дружить с детьми.
***
Царь-пушка, а при ней городовой.
На холоде пар изо рта клубится.
Давно, еще до Первой Мировой,
как хороша была зимой столица.
Казалось бы, сто с лишним лет прошло,
и многое вокруг переменилось
в угоду времени или назло,
чтоб наконец оно остановилось.
Меня волнует даже не сюжет,
но взгляд на вещи кинохроникера.
Клубится пар, струится белый свет,
что почернеет очень-очень скоро.
***
Вода в реке стояла высоко.
Она сегодня ночью превратилась
в то самое парное молоко,
в то, о котором в сказках говорилось.
До молока в кисельных берегах
додумался безвестный нам сказитель –
торговый человек или монах,
спешивший на ночлег в свою обитель.
Его смутил равнины голый вид
и безутешный облик человека,
что до смерти запуган и забит,
и глубоко несчастен, как калека.
***
Кругом проплешины, проталины,
но, если поле перейти,
камвольной фабрики развалины
увидеть можно впереди.
Ее когда-то растащили мы,
как знаменитую тюрьму,
объединенными усильями.
Она нам стала ни к чему.
Мы радовались, как язычники,
когда крошились кирпичи,
как государевы опричники,
российской жизни палачи.
***
Мысль банальная вполне –
Как такое может быть? –
не дает покоя мне,
не дает спокойно жить.
Я уже послал вперед
нескольких своих друзей
в скалах отыскать проход,
но все нет и нет вестей.
Тоже Ньютона бином! –
говорят мне мудрецы, –
Спят давно могильным сном
молодые храбрецы.
***
Стала вдруг моя броня
подозрительно слаба.
Я нащупал у коня
под седлом аж два горба.
Не проскочишь на таком
сквозь игольное ушко –
с полумертвым седоком
это сделать нелегко.
***
Дверь хлопнула, как детская хлопушка
во тьме кромешной, где из года в год
клубится мгла и где стоит заглушка,
между мирами перекрыв проход.
Никто из нас до времени не может
проникнуть в сопредельный мир, ему
тоска-кручина даром сердце гложет.
Он дом свой ненавидит, как тюрьму.
Как бабочка – безжизненное тело,
в которое зимой заключена,
и гусеницу, что кишки проела,
поскольку безобразно голодна.
***
Весна.
Юдоль наружу вышла,
как если бы мы ось земли
поворотить, как будто дышло,
волшебным образом смогли.
С ног на голову – вверх ногами
перевернулся стольный град.
Наружу вышел меж камнями
таящийся дотоле гад.
Из недр земли, из сердцевины
возник он – из небытия.
Как изумруды и рубины
его сверкала чешуя.
***
Завтра поутру мы станем розы
на зиму в пелены пеленать,
вскинем инструменты, примем позы,
всех заставим петь и танцевать.
Каждый день от сотворенья мира
должен быть чему-то посвящен –
сбору яблок иль рытью сортира
под надзором галок и ворон.
Словно я большая знаменитость,
жизнь моя расписана вперед.
На щеках известная небритость
к миру чувств причастность выдает.
***
Вереница будней тусклых.
Общий мрачный, серый фон.
Галерея типов русских,
будто долгий-долгий сон.
Мы разглядываем жадно
незнакомых нам людей,
к нам вопросов, вероятно,
будет много у детей.
– Кто такой разносчик сбитня?
Белошвейка? Зеленщик? –
спросит маленькая злыдня
и покажет нам язык.
***
Я политуры пить – не пил,
но знаю, что от горстки соли
лак, превращаясь в вязкий ил,
скукоживался, как от боли.
Подобным образом ведет
себя в огромной ржавой бочке
однажды ставший черным лед,
что по весне дошел до точки.
Лед черен, будто бы мертвец,
внезапно всплывший из пучины,
поэт, нашедший свой конец,
жизнь не пройдя до половины.
***
Правду говорят, Мамай прошел.
Конные отряды шли по рекам.
Лед хрустел, поскрипывал, как пол
на веранде, заметенной снегом.
Слышу – в отдаленьи кони ржут,
где-то вдалеке стучат копыта.
Ничего не уцелеет тут
от коммунистического быта.
Было все, не станет ничего.
Даже государственного строя,
чтобы людям греться от него
нынче, как во времена застоя.
***
Весна пришла. Конец зиме.
Но тон спокойной констатации
сдвиг произвел в моем уме,
как факт художественной акции.
Как если б на моих глазах,
вовсю дрожа от возбуждения,
поэты нагнетали страх,
крича свои стихотворения.
Но отвечал молчаньем им
народ, собравшийся на площади,
и страж порядка, недвижим,
сидел, как памятник, на лошади.
***
Вдруг луг зацвел и лес зазеленел,
хотя весна лишь только наступила.
Внезапно воцарился беспредел,
который есть внушительная сила.
Кого-то впечатляет свежий лист,
проклюнувшийся из дубовой почки,
кого-то с автоматом анархист,
охотнорядец с гирькой на цепочке.
Я поднял воротник, желая скрыть
лицо свое от лишних глаз во мраке:
– Как быть теперь?
Как дальше людям жить?
Опять в борьбе, нужде и вечном страхе?
***
В лесах, по склонам гор, среди полей
гуляет ветер и порхают птицы,
что делает намного веселей
жизнь нашу в отдаленьи от столицы.
Чем бы еще потешил я себя,
забившись в угол в сущности медвежий,
где в целом свете только ты и я,
ни интернета, ни газеты свежей?
На мой вопрос:
Что нового в стране? –
обходчик путевой махнет рукою.
Невольно остаюсь я в стороне
над схваткою – меж небом и землею.
***
Я правды добивался, как умел,
вконец семьей и школой замороченный,
и часто отрывал от важных дел
народ, вершить дела уполномоченный.
Мне было интересно все вокруг.
Однако, лучше опустить подробности,
о многом говорить нет смысла вслух,
не то чтобы по слабости – из скромности.
Отец в ответ мне пальцем погрозил,
когда его про Авеля и Каина
подростком я с ухмылкою спросил,
в виду имея Ленина и Сталина.
***
Заради умноженья славы Божьей
и жизнь в труде, и смерть в борьбе.
От этой горькой истины расхожей
вдруг стало мне не по себе.
С поспешностью невиданной на поле
снег окончательно сошел,
и Высшей власти сморщиться от боли
меня заставил произвол.
По прихоти Того, чье имя свято,
сквозь лед пробившись, там и тут
цветы с цветками в час заката
из кожи лезут вон – растут.
***
Словно марку английской колонии
с королевой Елизаветой,
горстку снега держу на ладони я,
ярким мартовским солнцем согретой.
Тает снег.
На глазах истончается
неказистого вида ледышка.
Карта мира с годами меняется.
Мучает королеву одышка.
***
Все из-под палки! – говорили.
В России труд был подневольным! –
учителя мои твердили
мне в классе, как в кружке подпольном.
На ветках набухали почки.
То вдруг скворец, то вдруг синица
на школьный двор поодиночке
слетались как бы причаститься.
У многих от воды и хлеба
ужасно животы крутило,
и в силу этого на небо
им возвращаться трудно было.
***
Прочь от сада гонят иволгу
обнаглевшие сороки,
целый день галдят без умолку,
как евреи в синагоге.
Нет к ним у меня доверия –
носом крутят, скачут боком,
а Христа из суеверия
называют лжепророком.
***
Н. Климонтовичу
Я не слушаю почти
радио
и не читаю.
Часто, сидя взаперти,
думаю, что умираю.
Нужен воздуха глоток –
шум ли это заоконный,
или за полночь звонок
наглый, вздорный, телефонный.
Чтоб со мной товарищ мой
поделился свежей сплетней,
ничего, что я босой
на полу стою в передней.
***
Весь на поверхности артиста труд.
Артист весь на виду, его все знают,
и розы, что ему несут, несут,
отнюдь не пахнут, а благоухают.
Рояль ведет на смерть виолончель,
однако он ее не убивает.
Обманом заманив ее в постель,
с трудом к кровосмешению склоняет.
Меж тем вообразить себе союз –
соитие пера с бумагой – стыдно.
Нелепое подобье брачных уз.
Плод их любви – ужасная Ехидна.
***
Я знаю, как глотать пилюли,
не запивая их водой,
большие, крупные, как пули,
свистящие над головой.
Жить против правил жизнь учила
по счастью нас не на войне.
Не ранило и не убило.
А кариес – терпим вполне.
Страдающий зубною болью,
хоть белый свет ему не мил,
утешен может быть любовью,
кто бы мне что ни говорил!
***
Как фарисей, я опустил глаза,
чтоб невзначай соблазну не поддаться.
С поспешностью, когда пришла гроза,
На берегу все стали одеваться.
Что молодость пройдет, я знать не знал,
про зрелость слышал только краем уха,
быть может, у Толстого прочитал,
но у него про это как-то глухо.
А в старости я понял, что помочь
никто не в силах мне на поле брани.
И сделался мой день черней, чем ночь.
Алмазные во мгле померкли грани.
***
За окнами у нас кусты растут.
Когда к земле их ветер клонит низко,
мне кажется, что казаки идут
на веслах по реке отсюда близко.
Им выгребать приходится с трудом,
чтоб лодку их о камни не разбило,
на весла навалившись животом,
всей тяжестью своей, как на перила.
Едва ли натиск выдержать такой
обычная способна древесина.
Казак силен, как никакой другой
на службе государевой детина.
***
Как в сонном царстве бедуина,
неспешно жизнь вокруг течет,
однако Русская равнина
уже на треть ушла под лед.
К концу зимы она бесследно
исчезнуть может, как река,
что до поры все ж худо-бедно
текла средь камня и песка.
Она не вытекла до капли,
но превратилась в ручеек,
который переходят цапли,
не замочив при этом ног.
***
Здесь всякой нечисти хватает.
Мы все наслышаны о том,
что леший в чаще обитает,
а водяной – на дне речном.
Чтоб убедились в этом дети,
мы с ними ходим по грибы
и ловим рыбу на рассвете,
свернув с проторенной тропы.
Наедине с рекой и лесом
оставшись, наша ребятня
природе внемлет с интересом,
молчанье робкое храня.
***
Меж тем, что происходит за окном
и в комнате у нас с тобой творится,
столь явственна, как меж добром и злом,
казалось бы условная граница.
Там строят мост, а тут мосты сожгли.
Там сад в цвету, а здесь – деревья голы,
чтоб без труда залезть на них могли
ученики московской средней школы.
Когда я ни зайду на школьный двор,
повсюду школяры сидят на ветках,
как будто бы они несут дозор
и день и ночь, забывши об отметках.
***
Численное превосходство
не на нашей стороне,
только честь и благородство,
и любовь к родной стране.
Так подумал почему-то
я, взглянув на старый сад.
Посреди реки запруда
привлекла на миг мой взгляд.
Видимо, вода подмыла
основание ее,
одолела силу сила,
на корню прогнило все.
***
Торжественность, с которой Он вошел,
была обратно пропорциональна
тому, как будет Крестный путь тяжел,
жизнь безутешна и многострадальна.
Вот так всегда, – сказал я, усмотрев
закономерность в данном эпизоде, –
начавшийся с веселой тризны сев,
свелся к упорной будничной работе.
Где стол стоял, сегодня гроб стоит.
Конечно, не в буквальном смысле слова.
Но так душа мучительно болит,
как будто бы взаправду нездорова.
***
Все бы ничего, да только
вдруг то здесь, то там кольнет,
будто бы по мне иголка
малой скоростью плывет.
Где, когда она причалит,
в точности сказать нельзя.
Может, тот, кто ею правит,
знает, скоро ли земля.
***
Все же проще ненавидеть
власть, чем родину любить.
Этим никого обидеть
не хочу и оскорбить.
С незамужних баб, конечно,
спрос не может быть велик –
гнут свое, базланят вечно,
вдруг срываются на крик.
Но, уж коль заговорили
пушки, Музы пусть молчат,
чтоб зазря не голосили,
не галдели невпопад.
***
Ручка двери. Ножка стула.
Спинка кресла – идеальна!
Мысль крамольная мелькнула
и исчезла моментально.
У меня такое чувство,
что от правды жизни страшно
далеко ушло искусство,
став ужасно не продажно.
Вся надежда остается
только на мастерового,
что без боя не сдается,
знает дело, держит слово.
***
Я среди святых отцов
одного с веселым взглядом
отыскал в конце концов
и бесстрашно встал с ним рядом.
В самом деле – остальных
я немного опасаюсь.
Снизу-вверх смотрю на них.
С ними не соприкасаюсь.
Осторожно, чтоб плечом
не задеть, не терануться
об Архангела с мечом,
я стараюсь извернуться.
***
В саду вблизи палат боярских
освобождали от оков
мы птиц сугубо пролетарских –
синиц, скворцов, чижей, щеглов.
Освобожденный пролетарий
взлетал настолько высоко,
что, в сад придя, как в планетарий,
меж звезд искали мы его.
Взор в поднебесье устремляя,
и заломив воротники,
смотрели мы, как в небо стая
за стаей шли вперегонки.
***
От ученической фуражки
на лбу заметна полоса.
Струится пот. Бегут мурашки.
До школы ходу полчаса.
Так долго, если вкруговую,
а напрямую – пять минут,
когда б ходил он напрямую,
минуя рощицу и пруд.
Там по весне гнездятся утки.
Он тихо кличет их: уть-уть.
Ведь утки, это вам не шутки,
их можно запросто спугнуть.
***
Он стер цивилизации следы.
Дождь непрестанно лил, как из ведра.
Сто тысяч ведер вылилось воды.
А после пала сушь, пришла жара.
Однажды Альбрехт Дюрер видел сон –
с небес на землю падала река,
и был он страшным шумом оглушен
воды, камней огромных и песка.
Бог с нами говорит на языке,
который должен быть понятен нам,
но то ли позабылся вдалеке,
то ль вовсе не пришелся по зубам.
***
Из множества вселенных выбрав ту,
которая всех прочих мне дороже,
подставил спину ветру на мосту,
чтоб ветер не пробрал меня до дрожи.
Есть способ защититься – воротник
подняв у куртки кожаной во мраке,
как будто летной школы выпускник,
и запихнув в штаны концы рубахи.
А если шапкой теплой меховой
разжиться я сумею, сообразно
достатку своему,
в мороз любой
себя смогу я чувствовать прекрасно.
***
Снег сходит.
Скажем – Шире шаг! –
простившись наскоро со снегом,
когда в крыжовенных кустах
зальется дрозд веселым смехом.
Должно быть, кто-то насмешил
так изумительно бедняжку,
что он в сторонку отложил
на миг конфетную бумажку.
***
Смерти нет,
и невозможно
заглянуть ни в рай, ни в ад,
как-нибудь неосторожно
провалившись между свай.
Только жизнь у человека
есть и больше – ничего.
В этом смысле он – калека,
а калеке нелегко.
Тяжело ему вприпрыжку
на одной ноге скакать,
мелко набранную книжку
одноглазому читать.
***
Сам с собой заговорил
по привычке, вероятно.
Сколько времени, – спросил
в Амстердаме? – что занятно.
Что мне этот Амстердам!
Если б был он Магаданом, –
Скоро все мы будем там, –
я б сказал друзьям-смутьянам.
Я бы стрелки на часах
обреченно переставил
у любимой на глазах
и рыдать ее заставил.
***
Мы не смогли венецианских дожей
узнать в толпе,
понять, был трезв иль пьян
на Мавзолее вождь с пунцовой рожей
за спинами рабочих и крестьян.
Великий город, чья не меркнет слава.
Однако крах его уже грядет.
Начав с вокзала, с банка, с телеграфа,
народ, в конечном счете, власть берет.
Очнувшись ото сна, на солнцепеке,
чтоб понемногу членики свои
размять,
детишки скачут, словно блохи,
и суетятся, будто муравьи.
***
Сколько ни мололи языком,
а на колобок едва собрали.
Испекли его с большим трудом
и тотчас делить на части стали.
Ясно представляя, что да как,
я, как в сказке, камень придорожный
прихватил и сунул под пиджак,
чтоб отбить удар судьбы возможный.
Чтобы всякий, взявший острый нож,
разделял и властвовал не слишком,
знал, чем может кончиться дележ,
жалким понимал своим умишком.
***
Лед пробует на прочность рыболов.
И совершает страшную ошибку.
В своем уме – психически здоров –
он жизнь кладет за золотую рыбку.
А тот, кто ради красного словца
готов на казнь пойти иль встать под пулю,
а что сказать мне про того глупца,
что ищет выход, тычется вслепую?
Что страшный зверь в конце концов пожрет,
не разбирая ни чинов, ни званий,
нас всех?
Что победит урод,
невежда полный, ненавистник знаний?
***
Главного советского злодея
я застал,
мы с ним не разминулись.
Как в пустыне жаркой два пигмея,
жалко, в рукопашной не схлестнулись!
Вот бы посмеялись наши люди,
что смеяться прежде опасались,
колыхались животы и груди,
словно горы древние вздымались!
Львы, жирафы, зебры, антилопы,
верно покатились бы со смеху.
Много накопилось в сердце злобы
к подлому, дурному человеку.
***
Что-то пронеслось над головой.
Я теперь сижу во тьме, гадаю,
мог ли не заметить над Москвой
в хмуром небе я воронью стаю?
Что так переполошило птиц?
Отчего, отчизну проклиная,
прямо в направлении границ
кинулись, путей не разбирая?
Я бы мог с полста причин назвать
в оправданье всякой Божьей твари,
что на волю вздумала бежать,
не найдя защиту в Государе.
***
Кто-то с кузова грузовика
спрыгнув, припустил босым по травке.
Я решил, что скрал наверняка
что-то он в заезжей автолавке.
Булку хлеба вряд ли бы он нес,
прижимая к сердцу, как младенца,
керосин, иль медный купорос,
иль в спортивной сумке полотенца.
Так несут лишь драгоценный дар –
в амфоре вино, в кувшине масло,
крест святой, спасаясь от татар,
свечку, чтоб случайно не погасла.
***
Не стойким, как химический состав
какой-нибудь отравы, этот город
представил я себе.
Я был не прав,
хоть и почувствовал смертельный холод.
Мне не было спасенья от него.
Яд действовал мучительно и долго.
Казалась, в узких улочках легко
смогу я затеряться, как иголка.
Но, верно, глубоко в меня смогла
проникнуть ядовитая отрава.
В меня его гордыня проросла.
Испортила и развратила слава.
***
Помимо проявления жестокости,
страх как боюсь решимости, с которой
все, как один, шагнули к краю пропасти,
нисколько не смущаясь смерти скорой.
Но не от страха я – от отвращения
в дверном замке ключ повернул три раза.
Мне не хватает выдержки, терпения,
а поводов с цепи сорваться – масса.
Уже весна. Христос воскрес.
Проклюнулись
на голой вербе первые листочки,
однако мы нисколько не одумались.
Дошли до края. До черты. До точки.
***
Был я подсознаньем загнан в угол
и сидел ни мертвый ни живой,
только молоточком вдруг постукал
за окном обходчик путевой.
Из вагонной буксы струйкой масло
вытекало на сухой песок –
знал обходчик, сколь это опасно,
и беду отвел, насколько мог.
Но Судьбы не отвести удара!
И об этом нужно помнить всем,
позабывшим к морю от загара
прихватить с собою детский крем.
***
Садовый вар я слизывал с руки
и помню вкус его чуть сладковатый,
под тонкой майкой острые соски,
живот всегда подтянутый, поджатый.
Чтоб вспомнить все, мне нужен громкий звук
и яркий свет, как будто на площадке,
где фильм снимает мой бесценный друг,
а не темно, как в церкви при лампадке.
Мне нужен яркий свет прожекторов

