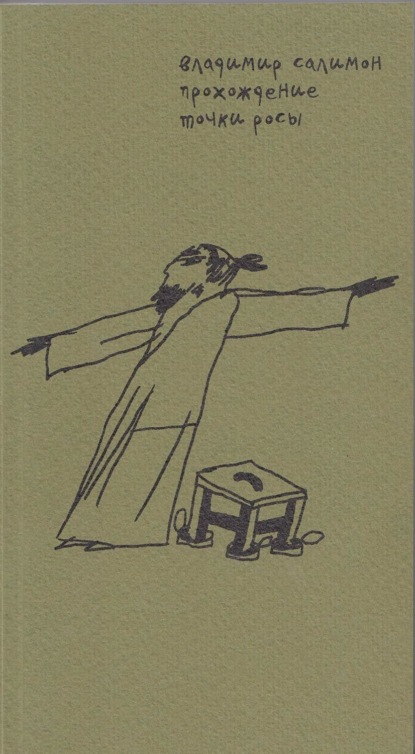 Полная версия
Полная версияПроисхождение точки росы
Ей приходилось то и дело,
на лапы задние привстав,
так изгибать худое тело,
как будто маленький удав.
Я заглянул в ее жилище.
Хоть он порой не уловим,
но нам родного пепелища
на самом деле сладок дым.
Артель незрячих инвалидов
в усадьбе с окнами на пруд
среди прекрасных сельских видов
недавно размещалась тут.
***
Поверх листка лежал другой листок,
и острый карандаш твой поневоле
оставил в нем глубокий желобок,
подобный колее дорожной в поле.
Теперь при освещеньи боковом,
как будто специальные чернила
использованы были,
на пустом
листке бумаги надпись проступила.
***
Вообразил себе кристалл,
в глубоком космосе растущий.
Он – совершенство, идеал,
безмерно нас к себе влекущий.
Он Бог? – спросили у меня.
Он тот, кто властвует над нами?
Но, мысли черные гоня,
в ответ я замахал руками.
***
В дугу согнул осенний ветер
высокий тополь у забора,
на что сторицей тот ответил.
А там – пошла писать контора.
Слов не было, но были звуки.
Глухие, полные печали.
И у Венеры были руки,
покуда их не отломали.
***
Могилу вырыли на совесть.
Столь безнадежной фразой можно
закончить небольшую повесть,
чтоб стало на сердце тревожно.
Читатель должен быть взволнован,
растроган и рыдать в подушку,
а сочинитель быть раскован,
есть, пить, гулять на всю катушку.
Поскольку их предназначенье
различно просто до смешного,
они не придают значенья
друг другу ровно никакого.
***
Отрытые наполовину,
два огнедышащих быка
так трудно пашут в поле глину.
Торчат наружу их рога.
Бич Божий искру высекает,
что озаряет небеса.
Господь быков тех погоняет.
Грохочет гром.
Идет гроза.
***
А. Алехину
В траве сухой,
как многоточие,
садовый черный муравей.
Есть птицы до него охочие
и множество чудных зверей.
Одни зубами страшно лязгают.
Другие клювами стучат.
Заранее победу празднуют,
жизнь превратив бедняги в ад.
Однако знаки препинания
не всякой твари по зубам,
и надо приложить старания,
чтоб их расставить по местам.
***
Так истончились небеса,
они настолько стали тонки,
что могут Господа в глаза
бранить дрянные собачонки.
Кто бросил камень, что есть сил
зажав его в ладошке потной,
по счастью им не угодил
в затылок птице перелетной.
Но та от ужаса яйцо,
где спрятана Кощея сила,
сомнений нет – факт на лицо:
на дно морское обронила.
***
Хватит! Полночь близится! Слезай!
Слыша бой часов, нетерпеливо
за сорочки долгополый край
крошку-Бога дернул я шутливо.
Мировому древу вид предать
поспешил, у елки на макушке
он звезду пристроив, подбирать
принялся в пандан звезде игрушки.
Не сумев вскарабкаться на стул,
кое-как залез на табуретку,
а потом ручонку протянул
и повесил алый шар на ветку.
Синие и желтые шары,
белые и красные гиганты
в небесах сияют с той поры,
составляя яркие гирлянды.
***
В прошедшем времени себе
не нахожу я места, словно
и не родился на Трубе,
и не был с нею связан кровно.
С московским детством ничего
меня не связывает боле,
но возвращаться нелегко
в места, знакомые до боли.
Не потому, что жалко мне
минувшей жизни безвозвратно,
а потому, что не вполне
моя причастность к ней понятна.
Мне не известен человек,
чье имя я решил присвоить.
Бог весть – он турок или грек,
хохол иль жид – нет смысла спорить.
***
Лес умер и воскрес, но я заметил,
что перемена в нем произошла:
лишь вдоль опушки он остался светел,
а в чаще вековой клубится мгла.
Ты думаешь, Христос не изменился
в лице, спустившись после смерти в ад?
Когда к ученикам он возвратился,
никем не узнан был, как говорят.
***
Я приходил в отчаянье, когда
терял ключи, что на кольце висели,
как дохлая рыбешка из пруда,
которой малость насушить успели.
Казалось бы, какая ерунда,
напильником владея превосходно,
знакомый слесарь может без труда
их дубликатов сделать сколь угодно.
Но я всегда ценил оригинал
неизмеримо больше дубликата,
он дверь легко и просто открывал,
а не дрожал и ерзал воровато.
***
Прежде, чем шагнул я за порог
и ступил на шаткую дорожку,
кто-то незаметно адресок
сунул в мою детскую ладошку.
Чтобы я по свету не плутал
и в конце концов не заблудился,
тот, кто адресок мне этот дал,
вслух его прочесть не поленился.
Наизусть запомнил адрес я,
так как места своего рожденья
человеку позабыть нельзя,
как и своего предназначенья.
***
Морковным кремом мажут щеки
и ходят по двору румяные,
и у калитки – руки в боки –
стоят, как куклы деревянные.
Все, проезжающие мимо,
бесстыдно шутят по их поводу,
но те стоят невозмутимо,
по саду бродят, ходят по воду.
Столкнувшись с ними у колодца,
я чувствую в груди стеснение,
и мне не сразу удается
унять внезапное волнение.
***
Чудесным образом срослись
два деревца, посаженные нами.
Одно из них взметнулось ввысь,
цепляясь за фонарный столб ветвями.
Другое распростерлось вширь,
пытаясь подчинить себе пространство, –
образовавшийся пустырь
на почве разорения крестьянства.
Бог весть, любовь связует их
иль блажь и похоть, страсти роковые,
но факт, что до плодов гнилых
охочи только черви дождевые.
***
Кто строго выполняет личный план,
тот, что сродни инструкции подробной,
на кухне починить способен кран
или сливной бачок в своей уборной.
Как биллиардный шар, земля кругла,
с ней сходства у граненого стакана
ты вовсе никакого не нашла,
а я нашел, чуть свет вскочив с дивана.
Мороз ударил ночью.
Гололед
дров наломал немало, коррективы
внеся в привычных дел круговорот,
вернув нам смысл обратной перспективы.
***
Снять мерку с конной статуи кумира
придется, чтобы людям доказать –
у статуи одна пола мундира
длинней другой на сантиметров пять.
Один сапог другого больше вдвое
от края голенища до мыска,
так, словно глядя в зеркало кривое,
мы видим в нем хромого седока.
***
Как дщерь невинная,
частица
животворящего креста.
Дымятся свечи. Пыль клубится.
Тонкодисперсная среда.
Заставит соприкосновенье
противоборствующих сил
зажмуриться нас на мгновенье,
чтоб, вспыхнув, свет не ослепил.
***
Кровельщик свалился с крыши дома
и увидел свет в конце пути,
будто бы огни аэродрома
полыхали где-то впереди.
Шел он долго, но моторов рева
почему-то было не слыхать.
Было тихо.
Не с кем было слова
на пути в загробный мир сказать.
Что он умер, сразу догадался,
но, однако, виду не подал,
оттого что мертвецов боялся
и чертей немало повидал.
***
Из штуки тонкого сукна
пустыня скроена была.
Река была из полотна.
Она меж горных гряд текла.
Когда взглянул я на чертеж
земли, что много лет назад
нарисовали,
он хорош
был, как кочевника халат.
***
Словно на высокие ступени
Царского престола,
всякий раз
забирался к маме на колени,
хоронясь от посторонних глаз.
Если посильней прижаться к маме,
можно услыхать, как у нее
сердце бьется,
словно в Божьем храме,
и хрустит нательное белье.
***
Гул голосов сменяет рев машин.
Из любопытства выглянув в окошко,
вдруг слышу я, как плачет муэдзин,
верней, мяучит в темноте, как кошка.
От звуков этих мне не по себе
становится,
печально и тревожно,
как будто я шагаю по тропе
ужасно узкой, тесной невозможно.
Внизу равнина голая видна
с огромною дырой посередине,
в которой тонет белая луна,
подобная бескрайней, голой льдине.
***
Я о дороге как о продолжении
пути подумав, зашагал быстрей,
однако дело тут не в напряжении
каких-то нам неведомых полей.
Тут дело исключительно в желании
участвовать в процессе мировом,
в стремительно растущем мироздании,
в мучительной борьбе добра со злом.
Лес сумрачный сменило поле дикое.
Я знал, что не остаться мне живым
и что хлебну еще немало лиха я,
но впереди был Иерусалим.
***
Чашка выскользнет из рук,
подколодная змеюка,
и раздастся жуткий звук.
Хуже нет на свете звука.
Все сбегутся посмотреть –
сестры, братья, дети, внуки, –
потому что умереть
можно осенью от скуки.
***
День впечатлений полон был,
как полон воздухом горячим
воздушный шар, что в небо взмыл
с трудом над озером стоячим.
Нет смысла мне перечислять
все, что со мною приключилось,
однако в толстую тетрадь
чреда событий уместилась.
Вот запись, сделанная мной
на девятнадцатой странице:
Ворона на ольхе сухой,
как будто петушок на спице.
***
Тонкие властительные связи,
как писал поэт Валерий Брюсов.
У поэтов бесталанных – в массе –
много больше минусов, чем плюсов.
Увлеченно говорит о Боге,
любит разговаривать стихами
человек, который ставит ноги
при ходьбе обычно внутрь носками.
***
В железной бочке хмурым днем
стоячая водица
большим надулась пузырем,
чтоб через край не перелиться.
Глядит на нас пузырь воды,
как глаз ужасного циклопа.
В нем нет ни капли доброты,
во взгляде этом – только злоба.
***
Под куполом, так высоко,
что мы
едва лишь различаем силуэты,
насилу отделяем свет от тьмы,
как от дешевых пуговиц – монеты.
Свет держится подальше от земли,
чтоб Ангелов и Демонов фигуры
издалека мы наблюдать могли,
не проникая в существо натуры.
Зверей и птиц черты предали им,
чтоб люди наши и толики сходства
у небожителей с собою не нашли
и не восстали против их господства.
***
Я никогда не видел разом
так много граждан именитых.
Их статуи подобны вазам
в садах, седым плющом увитых.
Гуляя вдоль стены Кремлевской
осенним днем, воображаешь,
что ты не на земле московской
беспечно лодыря гоняешь.
А бродишь в рощах заповедных,
по холмам средь дворцов роскошных
тех, что полны богатств несметных,
чудес, сокровищ всевозможных.
***
Глаз положил на Ангела небесного.
Когда, поворотясь через плечо,
тебя увидел, образа телесного
ты не имела в сущности еще.
Как некая духовная субстанция,
еще не облаченная во плоть,
как будто бесконечная дистанция,
которую бежать до смерти вплоть.
Мне физкультурник в тапках парусиновых,
в руке сжимающий секундомер,
вдруг вспомнился,
малец в трусах сатиновых
и длинный, уходящий в вечность сквер.
***
На соседнем доме вывеска,
что всю ночь горит огнем,
красная, как мяса вырезка,
незаметной стала днем.
Так, услышав имя Господа,
черт бежит, не чуя ног,
но никто не слышит топота
кованых его сапог.
***
Время переходного периода
растянулось до двух тысяч лет.
Думал, разбегутся слуги Ирода,
по щелям попрячутся,
ан, нет!
Ждут вакансий новых, новых должностей,
право есть у каждого на труд.
Кроме них, никто не знает тонкостей –
как вести хозяйство,
править суд.
***
Двор за окном наполнен голосами
детишек, несмотря на ранний час,
как если б это Ангелы за нами
сошли с небес, чтоб нас на небо взять.
Всю жизнь одним и тем же восторгаюсь –
как сквозь глухие шторы льется свет,
количеству бутылок изумляюсь
и куче фантиков из-под конфет!
Так много мы наели и напили,
что нашим правнукам не разгрести,
не отряхнуть сандалии от пыли,
от праха ног своих не отрясти.
***
Однажды на него нашло прозренье,
и он бояться смерти перестал.
Что отделяет только лишь мгновенье
от Вечности его, он осознал.
Он понял, что у Вечности порога
достоинство обязан сохранять,
о чем-нибудь высоком, славя Бога
и Ангелов небесных, размышлять.
Но мысли его путались о Боге
и Ангелах небесных в смертный час,
он, как бухгалтер, подводил итоги,
качал ногою и рукою тряс.
***
Как на пушечном лафете
Государя гроб везут.
Вдруг невесть откуда дети –
скачут, пляшут и поют!
Так и лезут под колеса
пушечного тягача,
а покойник смотрит косо –
длинный, тонкий, как свеча.
Он не в силах огрызнуться,
чтоб детишек разогнать,
тем, что зло над ним смеются,
мочи нет чертей задать.
***
Была суббота.
День шестой.
И женщина-венец творенья –
лежала голой предо мной,
как рукопись стихотворенья.
Все совершенно было в нем:
и содержание, и форма –
в проходе узком и крутом,
спасительном во время шторма.
***
Немноголюдно в горнице, но шумно.
Друг друга все хотят перекричать,
что крайне глупо, неблагоразумно.
У Иисуса на устах печать.
Вообрази, какие люди эти
выделывать ногами кренделя
способны, словно маленькие дети,
что постигают суть вещей с нуля.
Как детям, им на месте не сидится.
Кедрон течет, благоухает сад.
Божественной премудрости учиться
желанья нет большого у ребят.
***
Мальчишка сделался подростком,
подросток – юношей, и вот
в кустах сирени за киоском
старик из кружки пиво пьет.
При нашей бедности кромешной
излишеством на склоне лет
старик считает деве нежной
приобретенный мной букет.
Возможно, алые гвоздики
безумно ранят старика,
когда они торчат, как пики,
из высоченного кулька.
***
Как холст, что не был целиком
закрашен, день был малоснежным.
Товарищ наш за портвешком
уже собрался делом грешным.
Но с новой силой вспыхнув, спор
увлек в заоблачные сферы
нас, между нами разговор
касался большей частью веры.
О чем еще между собой
осталось спорить бедным людям?
О глупых бабах, как в пивной
мальчишки, глотки рвать не будем.
***
В лесу у каждого своя
дорога, чтобы не попался
беспечному стрелку на мушку я
и с вольной жизнью не расстался.
Принюхиваясь, морща низкий лоб,
обходит зверь стоянку человека,
а человек ложится ночью в гроб
не шутки ради вовсе,
не для смеха.
Себя готовит к новой жизни он,
как будто к встрече с Богом вероятной:
включает свет,
заводит граммофон,
пластинку ставит с музыкой приятной.
***
Как ржавая вода из крана.
Как тело старое, больное.
Я понял –
мир не без изъяна,
взглянув на яблоко гнилое.
Первоначальные расчеты
верны,
но линию фигуры,
напялив на себя колготы,
ужасно портят наши дуры.
***
Странны, как древних египтян
на жизнь и смерть воззренья, были
слова подвыпивших крестьян,
что вслух они произносили.
Понять не мог я ничего,
устройства речи их не зная,
что льется плавно и легко,
в душе следов не оставляя.
Как будто ночь, она темна,
как сад, она благоуханна.
И от нее, как от вина,
пьянеют люди постоянно.
***
На бедуине ветхая хламида.
Болтается на нем его тряпье,
как будто бы одел его для вида
он, чтобы скрыть ничтожество свое.
Когда порывом ветра распахнуло
халат, в котором вышел в сад сосед,
мне показалось, что на кончик стула
со мною рядом сел живой скелет.
Ложилась ночь. Жгли листья. Пахло гарью.
От ужаса и холода дрожа,
кем чувствовал себя он,
жалкой тварью?
Жертвой убийства с целью грабежа?
***
Земля была под стать ослиной шкуре,
и птицам приходилось тяжело
отыскивать в безжизненной структуре
все, что для них полезным быть могло.
В их поле зренья, кроме хлебных крошек,
семян цветочных, спящих мертвым сном,
могло попасть без счета мелких мошек,
существ, которым несть числа кругом.
Безглазые – безносы и безухи –
как каторжники беглые, они
Бог весть, какие претерпели муки,
чтоб расцвести столь пышно в наши дни.
***
Предвидения дара лишены,
как слуха абсолютного, однако,
что мы живем в преддверии войны,
любая знает на дворе собака.
Того гляди, накликают беду.
Забившуюся в ужасе под лавку,
назавтра утопить велю в пруду
Герасиму с утра пораньше шавку.
***
Сон сладок до невероятности,
его сосем мы, как нектар,
забыв про наши неприятности –
набеги половцев, хазар.
Меж сном и явью поле дикое
травой высокой заросло.
Ни плача женского, ни крика я
не слышу, словно сквозь стекло.
Наутро спящая красавица,
со мной положенная в гроб,
слегка волос моих касается,
чтоб отереть мне хладный лоб.
***
Пальцы растопырил,
и рука
превратилась в голову собачью,
а потом напомнила слегка
маленькую лодочку рыбачью.
Но лишь только в доме свет зажгли,
как в его лучах исчезли тени,
руки очертанья обрели
грубые, как звери на арене.
Заиграл оркестр. Зажглись огни.
Люди поднялись из мягких кресел.
Изумились искренне они
тем, что Бог слону меж ног подвесил.
***
Чуть свет дорожки чистят дворники.
Порядка во дворах они
наипервейшие поборники
и соглядатаи мои.
Я только встал с постели к завтраку,
а мне уж ведомо – скворцы
под утро упорхнули в Африку,
как деды их, как их отцы.
Была с годами не нарушена
связь меж отцами и детьми.
Была свобода не задушена
дурными, скверными людьми.
***
Отчаясь отпоить нашатырем
того, кто на неверную дорожку
ступил однажды зимним днем,
я выронил из рук со спиртом плошку.
Как жутко пахнет нашатырный спирт,
должно быть многим хорошо известно,
отнюдь не как благословенный мирт,
по склонам гор разросшийся чудесно.
А кто не знает, пусть вообразит
удар по голове железной палкой,
который в угол загнанный бандит
наносит постовому в схватке жаркой.
***
Танцор шагами мерит сцену.
Я насчитал их двадцать пять,
пока он не уткнулся в стену.
Лежит без чувств, не в силах встать.
А лебедь белая, в испуге
над ним склоняясь, слезы льет,
она в тоске о милом друге,
красивой ножкой ножку бьет.
Во цвете лет ее любимый
погиб, разбился в пух и прах,
и звуки песни лебединой
досель звучат в моих ушах.
***
Как римский император,
лопоух
мальчишка, рядом с матерью сидящий
на лавочке в саду среди старух,
глаз с крохотной пичужки не сводящий.
Что он мечтает шею ей свернуть,
я сразу догадался, ясно стало.
Почувствовал не ужас я, но жуть,
которая все члены мне сковала.
Несчастье я не мог предотвратить.
Случится то, что и должно случиться.
Нерон, взяв власть, мать повелит казнить.
Но прежде – в сети попадется птица.
***
Потому что синим светом
нас лечили с малых лет,
страшно в городе мне этом,
где повсюду – синий свет.
Льется он с высоких елок,
приодетых к Рождеству.
Он так резок и так колок,
что боюсь не доживу
я до праздников веселых,
просияет всем когда
людям в городах и селах
Вифлеемская звезда.
***
Они в лачугах сиротливых
живут на мирный труд в надежде.
Таких крестьян трудолюбивых
никто из нас не видел прежде.
Как венгры белые когда-то,
а следом – черные клобуки,
пройдут и канут в дебрях сада,
дав пищу мировой науке.
Худые, грязные, босые,
одетые ужасно бедно,
как нож сквозь масло,
сквозь Россию
пройдут иль канут в ней бесследно.
***
В стакане чайном ложечка,
чтоб я к ней повернулся,
подпрыгнула немножечко,
но я не оглянулся.
О чем нам разговаривать,
когда я знать не знаю,
как нужно чай заваривать,
и в том беды не чаю.
***
До черноты стволы осин намокли,
но откровенно радует меня,
что до сих пор мы все не передохли,
включая кур, двух телок и коня.
Хозяин морщит лоб, превозмогая
из глубины поднявшуюся боль,
или причина тут совсем другая –
собачь жизнь, табак и алкоголь?
Бог знает, что страданий человека
естественной причиной может быть,
когда он не урод и не калека,
лишившийся способности любить.
***
Торговка облизала языком
петуший гребень сахарный, глазурный,
и вот он заструился холодком,
как лунным светом небосвод лазурный.
За красоту такую я отдать
все, что имел, готов был без сомненья,
а дьявол, чтоб к рукам меня прибрать,
на новые пустился ухищренья.
Вдруг петушок, сидящий до того
на палочке, как будто бы на спице,
поднялся ввысь настолько высоко,
что впору лишь воздушной колеснице.
***
Заспорив, воробьи передрались,
и потянулись ночи воробьиные,
быки по горным тропам поплелись,
вслед за собой влача повозки длинные.
Во тьме ночной раздались стук копыт
и голоса охрипшие погонщиков,
и свист бичей, и скрип дорожных плит,
звон маленьких чудесных колокольчиков.
***
На крик срываются старухи,
но их не слышат старики,
они ужасно стали глухи
и бесконечно далеки.
Как в кинофильме эпизоды,
мелькает в окнах тусклый свет,
проходят дни, недели, годы,
а стариков все нет и нет.
Все до единого пропали,
как в воду канули они,
вдруг взяли и поумирали,
уйдя из дому, от родни.
***
Какая смертная тоска
быть комаром, жить на болоте
и плотоядного цветка
добычей стать в конечном счете!
Нет смысла заметать следы,
пыль – под кровать,
грязь – под циновку,
не лучше ли, как хочешь ты,
сменить всю разом обстановку?
***
Соблазнов ночь полным полна.
Когда перед рассветом,
беды не зная, спит страна,
спать недосуг поэтам.
За тем, кто оду сочинить
спешит Императрице,
мне не угнаться, может быть.
За журавлем – синице.
Но мне спросонок, в полусне
на ум приходят строчки,
что разойдутся по стране
однажды по цепочке!
***
Темно, как будто в доме корь.
Но корью мы переболели.
Перенесли мы эту хворь
давным-давно на самом деле.
Так отчего же так темно? –
спросила ты, отдернув шторы, –
Ведь корью ты болел давно,

