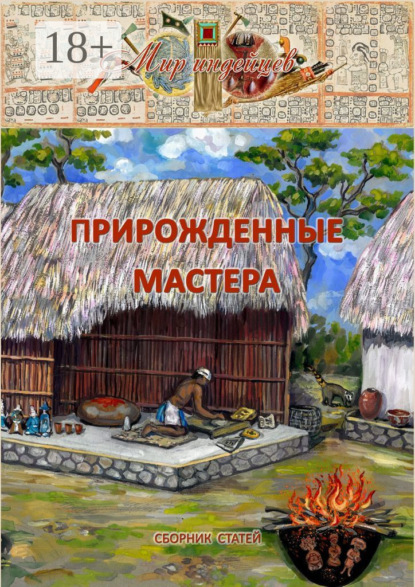
Полная версия:
Прирожденные мастера
Плоды азимины толстые, яйцевидные или продолговатые, длиной 5—16 см и весом до 500 г. Мякоть желтая, с приторным вкусом. В мякоти двумя рядами расположены темные продолговатые семена. В современной кулинарии из плодов азимины делают джемы и желе. Индейцы ели их свежими: на зиму плоды азимины не сохранялись.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Природа Северной Америки была необычайно богата. В ней не водилось привычных для европейца крестоцветных и было очень мало зерновых. Однако индейцы создали сбалансированное и очень вкусное меню из того, что было, – точно так же средневековая Европа обходилась без картошки и томатов.
«В северных поселениях сложилось даже мнение, что если кто желает вкусно поесть, то ему стоит пожить среди индейцев», – пишет путешественник Сэмюэл Хирн в своем дневнике [1].
Литература
[1] Моуэт Фарли. Следы на снегу. Мысль, 1985.
[2] Шнирельман В. А. Возникновение производящего хозяйства. Издание 2-е, дополненное. М.: Книжный дом «Либроком», 2012.
[3] Что такое никстамализация или почему тартильи сложно приготовить в Европе?3 ЧАСТЬ 1. – https://www.fontegro.com/dlya-shef-povara/statii/chto-takoe-nikstamalizaciya-ili-pochemu-tartili-slozhno-prig-48 (04.03.2019).
[4] The Biota of North America Program. North American Vascular Flora. – http://bonap.org/ (15.02.2019 – 10.07.2019).
[5] Edible Plant +Dichelostemma capitatum: Its Vegetative Reproduction Response to Different Indigenous Harvesting Regimes in California. – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1526-100X.1999.72016.x (06.03.2019).
[6] FirstVoices- Ktunaxa. Plants: medicine plants: words. Retrieved 11 July 2012. – https://www.firstvoices.com/explore/FV/sections/Data/Ktunaxa/ Ktunaxa/Ktunaxa (15.06.2019).
[7] https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=pran3 (13.03.2019 – 20.06.2019).
[8] Asch, David L; Asch, Nancy B. Chenopod as cultigen: A re-evaluation of some prehistoric collections from eastern North America. Midcontinental Journal of Archaeology: 3—45, 1977. https://www.jstor.org/stable/20707799?seq=1#page_scan_tab_contents (14.03.2019).
[9] Bill. Camas: So, you’re into slow food? – https://www.cultivariable.com/camas-so-youre-into-slow-food (06.03.2019).
[10] Charlie. Sotol (Desert Spoon). – http://www.swordofsurvival.com/2010/11/sotol-desert-spoon.html (08.03.2019).
[11] Colin. 62 Edible Wild Plants That You Didn’t Know You Can Eat. —
https://matteroftrust.org/14760/62-edible-wild-plants-that-you-didnt-know-you-can-eat (27.02.2019).
[12] Cresswell, Stephen. Homemade Root Beer, Soda & Pop. Storey Publishing, 1998.
[13] Kermath, Brian; Bradley, Bennett; Pulsipher, Lydia M. Food Plants in the Americas: A Survey of the Domesticated, Cultivated, and Wild Plants Used for Human Food in North, Central and South America and the Caribbean. 2018 – https://www.academia.edu/1139225/Food_Plants_in_the_Americas_A_ Survey_of_the_Domesticated_Cultivated_and_Wild_Plants_Used_for_ Human_Food_in_North_Central_and_South_America_and_the_ Caribbean? email_work_card=interaction_paper (20.04.2019).
[14] Moerman, Daniel (2010). Native American Food Plants: An Ethnobotanical Dictionary. Timber Press, 2010. – https://books.google.ru/books?id=iYhjlKR7GZEC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Daniel+E.+ Moerman%22&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjVwN2yxtLjAhV3xc QBHfHNDsIQ6AEILzAB#v=onepage&q&f=false (02.06.2019).
[15] Page du Pratz, Antoine S. Histoire de la Louisiane. Paris, 1758.
[16] Sauer, Carl O. Sixteenth Century North America: The Land and the People as Seen by the Europeans. Berkeley, California: University of California Press, 1975. pp. 80—81.
[17] Smith, Bruce D. Rivers of change: essays on early agriculture in eastern North America. Cowan, C. Wesley, 1951, Hoffman, Michael P. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2007.
[18] Smith, Bruce D. Eastern North America as an independent center of plant domestication. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2006. – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1567861/ (20.03.2019).
[19] Smith, Bruce D.; Yarnell, Richard A. (2009-04-21). Initial formation of an indigenous crop complex in eastern North America at 3800 B.P. – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2666091/ (28.02.2019)
[20] Smith, Norman F. Trees of Michigan and the Upper Great Lakes. 6th ed. Thunder Bay Press, 2002. p. 81.
[21] Sturtevant, William C. Handbook of North American Indians: Great Basin. Washington D.C.: Smithsonian Institution,1986.
[22] T. Abe Lloyd. How to Cook Camas. – http://arcadianabe.blogspot.com/2012/06/how-to-cook-camas.html (06.03.2019).
[23] Thomas C. Hart, Timothy H. Ives. Preliminary Starch Grain Evidence of Ancient Stone Tool Use at the Early Archaic (9,000 B.P.) Site of Sandy Hill, Mashantucket, Connecticut. Ethnobiology Letters. 4: 87. – https://ojs.ethnobiology.org/index.php/ebl/article/view/57 (15.03.2019).
[24] Thomas J. Elpel. Fire Plow Sets for Primitive Fire Making. —
[25] Turner, Nancy J. Wild Berries. The Canadian Encyclopedia. – http://www.grannysstore.com/Wilderness_Survival/fireplow.htm (17.03.20190).
[26] https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/wild-berries (27.02.2019).
[27] Weatherford, Jack. Native Roots: How the Indians Enriched America. Ballantine Books, 1992.
[28] Yanovsky, Elias. Food Plants of the North American Indians. U.S. Department of agriculture. Miscellaneous publication No. 237. July 1936. – https://books.google.ru/books/about/Food_Plants_of_the_North_ American_Indian.html? id=KNw9AAAAIAAJ&redir_esc=y (22.03.2019 – 15.07.2019).
Традиционные способы охоты на карибу и лося в Канадской Субарктике
Воробьев Д. В.
Публикуется в соответствии с планом научно-исследовательских работ Института этнологии и антропологии РАН
Очень многие авторы придерживаются мнения, что наиболее важным занятием у индейцев таежной Канады и внутренней Аляски был именно охотничий промысел. По подсчетам канадского антрополога Эдварда Роджерса, в пищевом режиме кри-мистассини доля охоты составляла 74%, рыболовства 25%, а сбора дикорастущих растений – 1% [9, p. 104]. Квебекский антрополог Даниэль Клеман полагает, что такие же пропорции характерны для инну общины Экуаничит (Минган) и других групп этого народа [2, p. 36]. Советский этнограф Лев Абрамович Файнберг отметил предпочтение охоты на копытных другим видам промысловой деятельности у алгонкинских и атапаскских групп, осваивавших территорию Канадского кристаллического щита [1, c. 75].
В утверждениях такого рода действительно есть определенный смысл, хотя бы в силу того, что охота – в первую очередь охота на карибу и лося – удовлетворяла не только потребности человека в еде. Из шкур шили одежду и покрышки для жилищ, сумки, колыбели и многие другие вещи. Еще из них нарезали бабиш – длинные узкие ремни, использовавшиеся в первую очередь для оплетки снегоступов – жизненно необходимого приспособления для передвижения по заснеженному лесу. Рога и кости также применялись для изготовления различных орудий, из сухожилий скручивали нити для шитья. Рыба же, за редкими вероятными исключениями, была связана только с культурой питания. По всей видимости, на Американском Севере изделия из рыбьей кожи не получили столь широкого распространения, как это было у некоторых сибирских народов (народы Приамурья и обские угры). По крайней мере, автору этих строк известен только один артефакт, датируемый XVIII в., и, предположительно, относящийся к майами – колчан из рыбьей кожи с сохраненной чешуей [6, p. 63] – а также упоминание без точной ссылки о бабише из кожи угря, изготовляемом группами бассейна реки Св. Лаврентия. Собирательство, главным образом, сбор дикорастущих ягод (голубики, брусники, малины, клюквы, морошки и т.д.), не могло составить серьезной конкуренции охотничьему промыслу. В то же время, если расширить значение термина «собирательство», например, до заготовки лекарственных растений или березовой коры, необходимой для строительства каноэ и многих других технических нужд, то его роль в жизнеобеспечении таежников существенно возрастет.
Как бы то ни было, первостепенное значение промысла карибу и лося в жизни индейцев Субарктики не вызывает никаких сомнений, и речь в этой статье пойдет, о том, каким образом они его вели.
Исследователи уже отмечали присутствие культурных особенностей и различий населения бореального леса и обитателей лесотундровой и тундровой областей Субарктики, как и то, что причина этих различий кроется в природном окружении. Еще в первой половине ХХ в. Франк Г. Спек, обосновывая свою точку зрения о двух типах социальной организации монтанье, слегка затронул, в том числе, вопрос о стратегиях охоты. Он писал, что общественное устройство жителей бореального леса (тайги) на юге Лабрадора было приспособлено к добыче животных, ведущих в основном оседлый образ жизни, не предпринимающих сезонных миграций и не собирающихся в крупные стада. Сообразно повадкам зверей, охота здесь носила индивидуальный характер. Особенно большое значение в качестве объектов промысла имели лось и бобр. В зоне лесотундры и тундры на северного Лабрадора, напротив, главным промысловым видом был карибу. Эти животные, собравшись в большие стада, совершают протяженные сезонные миграции с юга на север весной и с севера на юг осенью. В результате широкомасштабные коллективные охоты на карибу послужили причиной формирования коллективизма социально-экономической жизни [12, p. 220].
Для нас здесь важно, что разница в поведении промысловых животных, в первую очередь лося и карибу, требовала различных способов охоты.
Более последовательно вопрос о различиях охотничьих стратегий в бореальном лесу и лесотундре/тундре был изучен квебекским антропологом и ботаником Жаком Руссо. Согласно этому автору, между населением севера и юга полуострова Лабрадор существуют культурные отличия, связанные с тем, на каких животных и какими способами люди вынуждены охотиться.
Он отметил, что у наскапи Унгавы преследование стад карибу требовало коллективных усилий. Подробно зная маршруты движения стад, охотники подстерегали животных в засаде возле переправ через водоемы и били их копьями, когда они достигали берега, или непосредственно на воде. Данный вид играл настолько большую роль в жизнеобеспечении этих людей, что Руссо даже назвал их «паразитирующими на стадах карибу». Безусловно, эта характеристика не является негативной, а попросту подчеркивает важность для индейцев этого животного.
В бореальном хвойном лесу, напротив, «рассредоточенная дичь требовала индивидуальной охоты на основе терпения». Например, «Лось… основа алгонкинской гастрономии, подманивается посредством рожка из коры. Охотник, часами неподвижно сидящий в засаде, убивает его стрелой» [11, pp. 42, 44].
Итак, мы имеем дело с двумя охотничьими культурными ареалами. В южных таежных областях (бореальном лесу, по терминологии Руссо) промысел ведется в основном индивидуальными методами, а первостепенным добываемым зверем являлся лось, тогда как на севере тайги и в тундре велась коллективная охота на стадных карибу. Назову эти два гипотетических ареала «ареалом лося» и «ареалом карибу».
Ареал лося
Ранние письменные источники по колонизации Канады европейцами, датируемые XVII в., свидетельствуют о том, что у монтанье4 бассейна реки Св. Лаврентия промысел лося был жизненно важным. Описания охоты на этого зверя встречаются в них повсеместно, тогда как про охоту на карибу речь не идет почти вовсе. Судя по всему, методология лосиной охоты не отличалась разнообразием. В подавляющем большинстве случаев речь идет о загоне лося на снегоступах по глубокому снегу. Большая глубина снега являлась важным условием удачной охоты, а спутником малоснежной зимы часто становились голод и порой смерть от него.
Приведу несколько из многочисленных свидетельств такой охоты:
Миссионер-иезуит Поль Ле Жён в 1634 г. писал о монтанье: «Когда снега глубоки, они преследуют лося и, догнав, убивают его ударами копий… когда снег недостаточно твердый и глубокий, они преследуют одного зверя два-три дня, но когда он смерзается после небольшой оттепели, даже ребенок может убить их много, так как он ранит им ноги» [13, p. 294].
Самюэль Шамплэн, 1613 г.: «29 [апреля] дикари-монтанье с мыса Всех Дьяволов, заметив нас, бросились в свои каноэ и подошли к нам настолько истощенные и ужасные, что я их не узнал. В первую очередь они принялись просить хлеба, говоря, что они умирают от голода. Из этого мы заключили, что зима не была суровой, и, как следствие, плохая охота» [5, p. 288]. Видимо, это высказывание следует понимать так – зима выдалась мягкая, снегу выпало немного, и, в результате, охота на лося оказалась малопродуктивной.
Вновь Поль Ле Жён, 1634 г.: «Когда мало снега, его (лося – Д.В.) убивают выстрелами из лука… но это большая удача, если удается приблизиться к этому животному на выстрел из лука, так как он чует дикарей на очень большом расстоянии и бегает так же быстро, как олень» [13, p. 294].
Итак, судя по письменным источникам, если глубина снега в лесах была небольшой, охота на лося велась различными методами скрада. При глубоком снежном покрове предпочтение отдавалось охоте гоном, так как крупному и тяжелому животному было трудно передвигаться в таких условиях, и он быстро уставал. Наст тем более облегчал процесс охоты, так как лось, проваливаясь, ранил ноги об острую ледяную корку. Складывается впечатление, что охота гоном существенно преобладала над охотой скрадом.
Следует отметить, что загон по глубокому снегу мог вестись и коллективно, и индивидуально. Поэтому индивидуализм таежной охоты нельзя признать универсальным. Если снег был жесткий и глубокий, то это сделать было по силам и одному охотнику, но, вероятно, чаше для такой охоты требовалось два-три человека. Сначала нужно было найти след зверя и идти по нему, пока он не будет замечен. Затем начиналось преследование.
Интересно, что индивидуальные способы скрада, подманивание, ожидание в засаде на тропе – то, о чем писал Ж. Руссо – в ранних источниках, почему-то, почти не упоминаются. В то же время часто встречаются сообщения о трудностях охоты в малоснежные зимы, когда гнать лосей было бесполезно, их приходилось именно скрадывать и добывать неожиданным выстрелом из лука.
Источники последующих исторических периодов дают иную информацию. Вот такой увидел охоту на лося атапасками района Бол. Невольничьего озера автор XIX Эмиль Птито:
«Бесполезно идти за зверем по следу, когда он поднят. Он бросает вызов лучшему индейскому ходоку. Индейцы охотятся на лося и убивают его только тогда, когда он отдыхает. … Если погода тихая и очень холодная, если снег замерзший, покрытый коркой, от чего он хрустит под ногами, бесполезно ввязываться в это предприятие. Лось скроется до того, как охотник сможет его увидеть. Но когда дует ветер и падает пушистый снег, когда он покрывает лес толстым слоем, который делает шаги неслышными, тогда у охотника есть все шансы. … Он часто часами терпеливо и скрытно приближается, потому что он может убить лося только застав его врасплох на лежке» [8, pp. 35, 37].
Итак, Птито подробно описывает охоту скрадом в зимний период, причем в таком ракурсе, который дает основания рассматривать ее как единственно возможный способ добычи лося. Судя по этому высказыванию, Птито, похоже, вовсе отрицает возможность загона по снегу и насту и говорит только о различных вариантах выслеживания и подкарауливания. По всей видимости, здесь вступает в силу фактор огнестрельного оружия. В XIX в. индейские охотники были лучше оснащены ружьями, чем на два века ранее. Кроме того, качество и стрелковые характеристики оружия стали более совершенными. Возможно, именно это обстоятельство и позволило отказаться от распространенного прежде утомительного загонного метода. Однако вопрос об изменениях в охотничьей практике и природопользовании в целом под воздействием применения огнестрельного оружия нуждается в отдельном специальном исследовании.
Ареал карибу
Для северных областей, входящих в зону миграций тундровых карибу, была характерна иная охотничья стратегия. Она была обусловлена тем, что осенью и весной эти животные сбиваются в большие стада и совершают протяженные миграции в основном в меридиональном направлении. Именно это время являлось пиком промысловой активности людей. Зимой и летом, когда стада разбивались на мелкие группы, охота продолжалась, но со значительно меньшей интенсивностью.
Пожалуй, наиболее важной действительно была охота на переправах стад карибу через водоемы («поколка», по сибирской терминологии). Переправы обычно по многу лет происходили в одних и тех же конкретных местах. Наиболее известная постоянная переправа находилась в сужении озера Мушуо-Нипи (Индиан-Хаус-Лэйк), образуемом рекой Мушуо-Шипу (р. Джордж). По всей вероятности, находясь именно в этом месте во время путешествия по этой реке в 1947 г., Ж. Руссо написал следующее:
«Я увидел необъятные груды рогов этих животных – останки массового убийства от двух до трех сотен карибу. Кроме того, были кучи костей, расколотых для извлечения костного мозга, так как у наскапи былых времен это был главный источник жира. В одной из куч, по словам моего проводника Антуана, находились останки двух сотен карибу» [10, p. 101].
Зная приблизительные сроки появления стад, люди, обычно в количестве нескольких семей, поджидали животных на переправах, проявляя при этом большую осторожность, чтобы карибу не узнали раньше времени об их присутствии и не пошли в обратную сторону. Заметив карибу, сторожевые давали знать об этом остальным, и охотники прятались по берегам. Женщины и дети часто выполняли роль загонщиков, стремясь занять положение по бокам и позади карибу. Когда животные входили в воду, охотники быстро покидали укрытия, садились в каноэ и начинали преследование. Настигнув карибу, охотник бил его копьем. Реже во время такой охоты использовали лук.

Охота на карибу атапасков верхнего Юкона (Рис. Н. С. Шишелова).
По словам Уильяма Дункана Стронга, в начале ХХ в. наскапи Баррен-Граунд и Дэйвис-Инлет (сейчас группа мушуо инну) использовали: «Для охоты на карибу короткое копье или cimāgin (около 4 футов в длину) … имеющее наконечник в виде железного острия ножа». Охотник приближался на каноэ к плывущему животному и бил копьем между ребер в сердце, или ждал, когда карибу приблизится к берегу, и добывал его на мелководье. «Этим способом один человек мог убить сотню или больше карибу за один день» [3, p. 115].
Люсьен Тёрнер, посетивший в конце XIX наскапи дистрикта Унгава, тяготевших к торговому посту Форт-Шимо, также оставил описание такой охоты. Особенно его внимание привлекло то, что охотники, находясь в каноэ, старались поразить животное копьем с таким расчетом, чтобы оно не погибло сразу, а имело силы на последнем дыхании достичь берега [14, p. 113].
Еще одним коллективным способом охоты на карибу был загон в изгородь, выстроенную из жердей и, как правило, имевшую V-образную форму. Иногда в изгороди специально делались проемы, в которых настораживались петли. Загонщики двигались справа, слева и позади оленей, направляя их в постепенно сужающуюся изгородь. В самом конце звери попадали в небольшое огороженное пространство, и охотники расстреливали их из луков. Животные, идущие в проемы, попадали в петли. Такая охота практиковалась зимой и во время весеннего хода карибу из тайги в тундру, когда озера и реки еще не освободились ото льда.
У. Д. Стронг описывает его так:
«Загон в корраль (mē’nikan) также применялся зимой. Женщины срубали и притаскивали жерди, а мужчины строили корраль. Мужчины гнали оленей в сооружение в форме V, сделанное женщинами и детьми. Одни мужчины пугали оленей, размахивая куском материи (находясь по бокам) …другие поджидали их с ружьями и луками» [3, p. 115].
Стронг также отметил, что иногда корраль ставили на маршруте карибу вдоль берега на переправе (в частности на реке Джордж), и выходившие на берег животные попадали в ловушку [3, p. 115]. Такая охота велась уже во время осенней миграции, когда лед еще не встал. Животные, которым удавалось спастись от копий охотников в воде, тем не менее, становились добычей человека, оказываясь в изгороди.
Очень интересным и подробным выглядит описание изгороди восточных кучинов, сделанное Э. Птито:
«Проходя по этому красивому озеру, я заметил шилс (shils) или охотничий палисад, заключающий в себе обширный участок песчаных равнин и леса и примыкающий к берегу озера. Эта изгородь была сделана из грубо соединенных сухих деревьев; кое-где в ней были проделаны отверстия или ворота для установки петель или веревок из кишок. Оленей гонят к ограде и стараются загнать их внутрь; затем, когда они все уже внутри, их вынуждают оттуда выбираться через ворота, снабженные петлями, в которых они запутываются и душат сами себя» [7, p. 192].
В данном случае прослеживается разнообразная загонная тактика. Олени попадались в установленные на выходах из палисада петли. Сам палисад заканчивался озером, где охотники, находясь в каноэ, могли поджидать карибу. Здесь можно наблюдать одновременное применение трех способов: охота при форсировании стадами водоема, загон в изгородь и добыча копьем и луком, загон в петли и силки. Нетрудно заметить тесное типологическое сходство всех этих способов.
Сходные черты ареалов лося и карибу
Несмотря на выявленные нами различия в охотничьих стратегиях аборигенного населения бореального леса и лесотундры/тундры (ареалов лося и карибу), они, тем не менее, не являются замкнутыми четко отграниченными друг от друга системами. Во-первых, помимо тундровых карибу существует также лесная разновидность этих же животных. Лесной карибу по своему поведению существенно отличается от тундрового. Он не совершает сезонных миграций и держится не слишком крупными группами в среднем до тридцати особей. Во-вторых, тундровой карибу сбивается в большие стада только в период сезонных перемещений, а летом и зимой тоже держится рассредоточено. Таким образом, в промысле обеих разновидностей карибу могут применяться различные индивидуальные способы – всевозможные вариации скрада. Разве что индивидуальный загон по насту и глубокому снегу в данном случае вряд ли возможен в силу того, что по выносливости карибу значительно превосходит лося. Соответственно, от охотника из «ареала карибу» вполне могли потребоваться такие же знания, адаптивные навыки и умение, что и для охотника из «ареала лося».
В качестве примера я расскажу только об одном способе охоты скрадом, практиковавшемся как раз на открытых пространствах тундры и лесотундры, и относительно которого имеются противоречивые данные
Этот способ заключался в том, что охотник укрывался под оленьей шкурой с оставленной частью головы с рогами и подбирался к карибу, которые принимали его за представителя своего вида. Достигнув расстояния досягаемости выстрела из лука или даже удара копья, он поражал животное. Например, канадский натуралист XIX в. Ж. М. Ле Муан дает такое описание этой охоты:
«Индеец, покрытый шкурой карибу, крадется ползком, имитируя хорканье животного. Неразумный олень приближается, чтобы посмотреть и, словно в наказание за свое любопытство, получает острую стрелу» [4, p. 48].
В то же время мои полевые данные по промыслу дикого северного оленя в Сибири, казалось бы, опровергают саму возможность способа охоты, при котором человек скрадывает карибу/дикого оленя, прячась под шкурой этого животного. На мой вопрос, охотились ли таким образом раньше, старый эвенк из поселка Чиринда (север Эвенкийского района Красноярского края) ответил: «Нет, так никогда не охотились. У дикого и человека шаг разный. Дикий сразу поймет, что это человек» [15]. Другой охотник более молодого возраста, независимо от первого информанта, высказал аналогичное мнение, даже употребив при этом идентичные слова: «У человека шаг другой. Олень сразу всё поймет» [15]. Таким образом, к информации о данном способе охоты следует относиться с осторожностью.
Когда на основе этих утверждений у меня появились сомнения в достоверности такого рода свидетельств, в одной из последних, к сожалению, бесед я сказал об этом своему учителю П. М. Кожину, он рассеял все мои сомнения такими словами: «Современные аборигены понимают, что это невозможно, и поэтому так не охотятся. Древние аборигены не понимали, что невозможно имитировать шаг карибу, и имитировали его».



