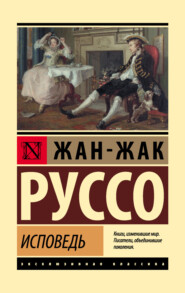
Полная версия:
Исповедь
Если бы я два месяца оставался под властью этого чудовища, ручаюсь, что голова моя не выдержала бы. Но добрый г-н Гро, заметив, что я грущу, ничего не ем и худею, догадался о причине моего горя, – да это было и нетрудно. Он вырвал меня из когтей этого животного, и я неожиданно попал в руки самого мягкого из людей: это был уроженец Фосиньи, молодой аббат Гатье, который сам проходил семинарский курс и, из любезности к г-ну Гро, а может быть, из человеколюбия, согласился урывать время среди своих занятий, чтобы руководить моими. Я никогда не видел наружности, более привлекательной, чем у г-на Гатье. Он был блондин с рыжеватой бородкой; манерой держаться он походил на своих земляков, которые под тяжеловесным обликом скрывают большой ум; но самым замечательным в нем была его душа – чувствительная, привязчивая, любящая. В его больших голубых глазах была мягкость, нежность и грусть; и, увидев его, нельзя было не заинтересоваться им. Во взгляде и в голосе бедного молодого человека было что-то, заставлявшее думать, что он предвидит свою судьбу и чувствует себя рожденным для того, чтобы быть несчастным.
Характер его не расходился с наружностью: всегда исполненный любезности и терпения, он, казалось, скорее учился вместе со мной, чем обучал меня. Мне не много было нужно, чтобы его полюбить: его предшественник сильно облегчил эту задачу. Однако несмотря на то что он посвящал мне много времени, несмотря на наше обоюдное доброе желание и на то, что он умело взялся за дело, я подвигался очень медленно, хотя работал усердно. Странно, что, несмотря на достаточную понятливость, я никогда ничему не мог научиться от учителей, за исключением моего отца и г-на Ламберсье. То немногое, что я усвоил сверх этого, я приобрел сам, как будет видно из дальнейшего. Мой ум, не выносящий никакого принуждения, не подчиняется требованиям данной минуты; самый страх, что мне не удастся усвоить урок, мешает мне быть внимательным: я притворяюсь понимающим из боязни раздражать того, кто объясняет; он уже идет вперед, а я еще ничего не понял. Мой ум хочет действовать в свое время и не умеет подчиняться чужому распорядку.
Когда наступило время посвящения, г-н Гатье вернулся в свою провинцию диаконом. Он увез с собой мое сожаление, мою привязанность, мою благодарность. Я выразил ему пожелания, которые так же мало исполнились, как и те, что относились ко мне самому. Через несколько лет я узнал, что, будучи викарием в одном приходе, он прижил ребенка с девушкой – единственной, которую он, несмотря на свое нежное сердце, полюбил за всю свою жизнь. Это вызвало страшный скандал в епархии, находившейся под очень строгим управлением. Священники, согласно обычаю, могут иметь детей только от замужних женщин. За то, что он пренебрег этим законом приличия, его посадили в тюрьму, опозорили, изгнали. Не знаю, удалось ли ему впоследствии улучшить свое положение, но воспоминание о его несчастье, глубоко запавшем в мое сердце, ожило во мне, когда я писал «Эмиля», и, соединив г-на Гатье с г-ном Гемом, я сделал из этих двух достойных пастырей оригинал савойского викария. Льщу себя надеждой, что копия не принесла бесчестия образцам.
Пока я пребывал в семинарии, д’Обон был вынужден покинуть Аниеси: г-ну интенданту не нравились ухаживания за его супругой. Он поступил, как собака на сене, так как, хотя г-жа Корвези была мила, они жили очень плохо; его ультрамонтанские вкусы делали ее для него излишней, и он обращался с ней так грубо, что возник вопрос о разводе. Черный, как крот, вороватый, как сова, г-н Корвези был человек дрянной; своими проделками он сам добился того, что его прогнали со службы. Говорят, провансальцы мстят своим врагам, складывая про них песенки, – д’Обон отомстил комедией; он отослал эту пьеску г-же де Варанс, которая показала ее мне. Она понравилась мне и вызвала у меня желание написать такую же комедию, чтобы проверить, действительно ли я так глуп, как утверждал автор. Я привел эту мысль в исполнение, написав «Влюбленного в самого себя». Впоследствии, утверждая в предисловии к этой пьесе, будто я сочинил ее в восемнадцатилетнем возрасте, я ошибся на несколько лет.
Приблизительно к этому же времени относится событие, малозначительное для меня само по себе, но чреватое последствиями и наделавшее много шуму, когда я уже забыл о нем. Раз в неделю мне разрешалось уходить из семинарии; не надо объяснять, где я проводил этот день. В одно из воскресений, когда я был у маменьки, загорелось строение у кордельеров, смежное с ее домом. Это строение, в котором у них помещалась пекарня, было доверху наполнено сухим хворостом. В один миг все было в огне; дом г-жи де Варанс находился в большой опасности, так как ветер относил языки пламени к нему. Все принялись поспешно выбираться и выносить мебель в сад, расположенный против моих прежних окон, по другую сторону ручья, о котором я уже говорил. Я так растерялся, что стал кидать в окна без разбору все, что попадалось под руку, вплоть до тяжелой каменной ступки, которую в другое время едва мог бы приподнять; я уже готов был выбросить туда же и большое зеркало, если бы кто-то не удержал меня. Добрый епископ, который зашел в этот вечер навестить маменьку, не оставался праздным; он увел ее в сад и стал на молитву с ней и со всеми, кто находился там; когда я немного спустя пришел туда, то застал всех на коленях и последовал общему примеру. Во время молитвы святого человека ветер переменился, да так внезапно и так кстати, что языки пламени, уже лизавшие дом и врывавшиеся в окна, были отнесены в другую сторону, и дом не пострадал. Через два-три года, когда г-н Берне умер, его старые собратья антонианцы стали собирать материал для его канонизации. По просьбе г-на Буде я присоединил к этому материалу описание события, о котором только что рассказал; и это было хорошо, но плохо то, что я выдал это событие за чудо. Я видел епископа на молитве и видел, как во время его молитвы ветер переменился и притом очень кстати, – вот что я мог сказать и подтвердить, но я не должен был утверждать, что одно из этих явлений было следствием другого, – потому что не мог этого знать. Однако, насколько я могу вспомнить свои взгляды, тогда искренне католические, я сам верил в это. Любовь к чудесному, столь свойственная человеческому сердцу, мое уважение к этому добродетельному прелату, скрытая гордость, что, быть может, и я способствовал чуду, могли соблазнить меня; во всяком случае, верно одно: если это чудо было следствием самых пламенных молитв, я с полным правом мог бы приписать его отчасти и себе.
Через тридцать с лишним лет, когда я опубликовал свои «Письма с горы», г-н Фрерон, не знаю как, откопал это показание и использовал его в своих листках. Нужно признать, это была счастливая находка, и удача ее мне самому показалась очень забавной.
Быть забракованным во всех профессиях – такова была моя судьба. Хотя г-н Гатье и дал о моих успехах по возможности благоприятный отзыв, всем было ясно, что успехи мои не соответствовали усердию, и это обстоятельство не могло поощрить меня к продолжению занятий. Поэтому епископ и ректор семинарии отказались от меня и возвратили меня г-же де Варанс – как субъекта, не способного быть даже сельским священником, хотя, в общем, по их отзыву, малого доброго и неиспорченного; это способствовало тому, что, несмотря на столь неблагоприятную оценку, она не покинула меня.
Я торжественно принес обратно нотную тетрадь, которой сумел так хорошо воспользоваться. Ария из «Алфея и Аретузы» – вот приблизительно все, чему я научился в семинарии. Явная склонность моя к этому искусству навела маменьку на мысль сделать из меня музыканта; обстоятельства благоприятствовали этому: у нее, по крайней мере раз в неделю, занимались музыкой, а соборный регент, довольно часто навещавший ее, дирижировал этими маленькими концертами. Это был парижанин, по имени Леметр, хороший композитор, очень живой, очень веселый, еще молодой, привлекательной наружности, не особенно умный, но, в общем, очень славный. Маменька познакомила меня с ним; я к нему привязался и понравился ему; заговорили о пансионе и пришли к соглашению. Короче говоря, я поступил к нему в обучение и провел у него зиму тем более приятно, что певческая школа была только в двадцати шагах от маменькиного дома. В одну минуту мы оказывались там и очень часто вместе у нее ужинали.
Нетрудно понять, что жизнь в этой школе, всегда певучая и веселая, среди музыкантов и детей-певчих, понравилась мне больше, чем жизнь в семинарии, с отцами св. Лазаря. Однако хотя и более свободная, она была не менее ровной и правильной. От природы я любил независимость и никогда не злоупотреблял ею. В продолжение целых шести месяцев я ни разу никуда не выходил, кроме как к маменьке или в церковь, и меня даже никуда не тянуло. Этот период принадлежит к числу тех, которые я прожил в самом глубоком покое, и я вспоминаю о нем с величайшим удовольствием. Среди различных положений, в которые я попадал, иные были отмечены таким чувством благополучия, что воспоминание о них вновь захватывает меня, как будто я и сегодня его переживаю. Я помню не только время, лица, место, но и все окружающие предметы, температуру воздуха, запахи, краски и то особое, производимое только данным местом, впечатление, живое воспоминание о котором снова переносит меня туда. Например, все, что репетировали в певческой школе, все, что пели в хоре, все, что там делали, прекрасная одежда каноников, священническое облачение, скуфейки певчих, лица музыкантов, старый хромой плотник, игравший на контрабасе, маленький белокурый аббат, игравший на скрипке, рваная сутана, которую Леметр, сняв шпагу, надевал поверх светской одежды, и красивый тонкий стихарь, которым он, идя в хор, прикрывал ее лохмотья; гордость, с какой я шел, держа в руках маленький кларнет, на свое место в оркестре, чтобы сыграть небольшое соло, нарочно написанное для меня Леметром; хороший обед, ожидавший нас потом, и хороший аппетит, с которым мы к нему приступали, – вся вереница этих образов, живо воспроизведенных, сотни раз очаровывала меня в воспоминаниях не менее, и даже более, чем в действительности. Я навсегда сохранил нежную любовь к арии «Conditor alme siderum»[9], написанной ямбами, – потому что в одно из воскресений Рождественского поста, еще лежа в постели, до рассвета, я услыхал пение этого гимна на паперти собора, согласно обычаю этого храма; м-ль Мерсере, горничная маменьки, немного знала музыку, – я никогда не забуду маленького мотета «Afferte»[10], который Леметр заставил нас двоих спеть, а ее хозяйка слушала с таким удовольствием. Наконец все, вплоть до славной служанки Перрины, доброй девушки, которую дети из хора так донимали, – все воспоминания этого счастливого и невинного времени часто воскресают в моей памяти, очаровывая меня и вызывая во мне грусть.
Я прожил в Аннеси около года, не заслужив ни малейшего упрека: все были довольны мной. С самого моего отъезда из Турина я не сделал ни одной глупости и не делал их все время, пока был на глазах у маменьки. Она руководила мной и руководила очень хорошо; моя привязанность к ней стала моей единственной страстью; и доказательством, что страсть эта не была безрассудной, было то, что сердце мое воспитывало мой ум. Правда, это глубокое чувство, поглощавшее, так сказать, все мои способности, лишало меня возможности чему бы то ни было научиться, даже музыке, как я ни старался. Но в этом я был не виноват: с моей стороны не было недостатка ни в доброй воле, ни в прилежании. Я был рассеян, мечтателен, часто вздыхал. Что я мог поделать с собой? Я делал все от меня зависящее, чтобы добиться успехов; но для того чтобы наделать новых глупостей, мне нужен был только повод, который вдохновил бы меня. Этот повод представился; случай помог обстоятельствам, и, как покажет дальнейшее, моя взбалмошная голова не преминула этим воспользоваться.
В один февральский вечер, в большую стужу, когда мы все сидели у огня, послышался стук в наружную дверь. Перрина берет фонарь, идет вниз, отворяет; входит молодой человек; он поднимается по лестнице, непринужденно рекомендуется и обращается к Леметру с коротким и ловким приветствием, выдавая себя за французского музыканта, испытывающего денежные затруднения и вынужденного прибегать к побочным заработкам, чтобы перебиться. При словах «французский музыкант» сердце доброго Леметра задрожало; он страстно любил свою родину и свое искусство. Он пригласил к себе молодого путника и предложил ему кров, который тот, видимо, сильно в нем нуждаясь, принял без дальнейших церемоний. Я наблюдал за ним во все время, пока он грелся у огня и болтал в ожидании ужина. Он был невысокого роста, но широкоплеч; в его сложении была какая-то неправильность, хотя и не замечалось никакого определенного уродства; это был, так сказать, горбун без горба; кажется, он только слегка прихрамывал. На нем была черная одежда, не столько старая, сколько истрепанная, вся в лохмотьях; очень тонкая и очень грязная рубашка, красивые, но сильно потертые манжеты, гетры, из которых каждая могла бы вместить обе его ноги, и для защиты от снега – маленькая шляпа, годная только на то, чтобы носить ее для виду под мышкой. В этом смешном одеянии было, однако, что-то благородное, как и в его манерах; черты его лица были очень привлекательны, он говорил легко и хорошо, но очень нескромно. Все обличало в нем молодого гуляку, получившего образование и пустившегося бродяжничать – не как настоящий бродяга, а как беспутный повеса. Он сообщил нам, что его зовут Вантюр де Вильнев, что он идет из Парижа, что дорогой он заблудился, и, немного забывая свою роль музыканта, прибавил, что направляется в Гренобль повидаться с родственником, который у него там в парламенте.
Во время ужина заговорили о музыке, и он показал себя сведущим в ней. Он знал всех великих виртуозов, все знаменитые произведения, всех актеров, актрис, всех красивых женщин, всех знатных вельмож. Казалось, он был в курсе всего, о чем только шла речь; но едва затрагивалась та или иная тема, как он прерывал беседу какой-нибудь шаловливой выходкой, которая всех смешила и заставляла забыть предмет разговора. Дело было в субботу; на другой день в соборе должна была быть музыка. Г-н Леметр предлагает ему выступить с пением. «С большим удовольствием». На вопрос, какой у него голос, следует ответ: «Альт…» И он снова заговаривает о другом. Перед тем как идти в церковь, ему предложили просмотреть его партию, – он не кинул на нее взгляда. Это бахвальство удивило г-на Леметра. «Вот увидите, – шепнул он мне на ухо, – он не знает ни одной ноты!» – «Боюсь, что это так», – ответил я и последовал за ним в большой тревоге. Когда начался концерт, у меня страшно забилось сердце, так как я был очень заинтересован гостем.
Скоро я успокоился. Он спел оба своих соло с поразительной точностью и вкусом и, что еще важнее, очень красивым голосом. Мне не случалось переживать более приятной неожиданности. После мессы каноники и музыканты засыпали г-на Вантюра комплиментами, на которые он отвечал шутливо, но по-прежнему очень изящно. Г-н Леметр от души расцеловал его; я сделал то же; он заметил, что я очень доволен, и это, по-видимому, было ему приятно. Все, я уверен, поймут, что после моего увлечения Баклем, в конце концов простым неучем, я легко мог увлечься Вантюром, который обладал образованием, талантами, умом, светским обращением и мог сойти за милого гуляку. Так именно со мной и случилось, и случилось бы, я думаю, со всяким другим юношей на моем месте – тем легче, чем больше у него было бы чутья и вкуса, чтобы оценить достоинства Вантюра и к нему привязаться; дело в том, что Вантюр, бесспорно, обладал достоинствами, и особенно одним, очень редким в его возрасте: он не торопился выказывать свои знания. Правда, он хвастался многими вещами, о которых не имел никакого понятия, но о тех, которые знал, – а их было немало, – не говорил; он выжидал случая показать свои знания на деле; тогда он пользовался своим преимуществом совершенно спокойно, и это производило величайший эффект. Так как он ни о чем не высказывался до конца, то никто не знал, когда он выложит все свои познания. Шутливый, веселый, неистощимый и увлекательный собеседник, всегда улыбающийся, но никогда не смеющийся, он говорил самым изысканным тоном самые циничные вещи, – и все сходило ему с рук. Женщины, даже самые скромные, сами дивились тому, как они могут терпеливо выслушивать все, что он осмеливается говорить. Они отлично понимали, что надо рассердиться, но у них не хватало духу. Ему нужны были только падшие женщины, и я не думаю, чтоб он был создан для того, чтоб иметь успех в жизни, но его призванием было вносить бесконечное очарование в круг людей, имевших этот успех. Трудно было допустить, чтобы, обладая столькими приятными талантами и находясь в стране, где их любят и знают в них толк, он долго остался в узком кругу музыкантов.
Мое увлечение Вантюром, более разумное в своем основании, не вызывало с моей стороны и тех сумасбродств, на которые толкнуло меня увлечение Баклем, хотя было сильней и продолжительней. Мне очень было приятно видеться с ним и слушать его; все его поступки казались мне очаровательными, все его слова – изречениями оракула, – но моя привязанность не доходила до того, чтобы я не был в состоянии расстаться с ним. У меня было под рукой отличное предохранительное средство против такой крайности. К тому же, находя, что его убеждения очень хороши для него, я чувствовал, что они не годятся для меня: у меня была потребность в другого рода наслаждениях, о которых он не имел понятия; я не решался говорить ему о них, зная, что он поднимет меня на смех. Тем не менее мне хотелось согласовать эту привязанность с той, которая владела мною. Я с восторгом рассказывал о нем маменьке; г-н Леметр отзывался о нем с похвалой. Она согласилась, чтобы его привели к ней. Но эта встреча совсем не удалась; он нашел ее жеманной, она его – распущенным; и, боясь, что это знакомство будет иметь для меня дурные последствия, она не только запретила мне снова приводить его к ней, но так ярко описала мне всю опасность, которой я подвергаюсь в обществе этого молодого человека, что я стал немного более осмотрительным в своем увлечении; и, к счастью для моей нравственности и головы, мы вскоре с ним расстались.
У г-на Леметра были вкусы, свойственные его профессии: он любил вино. За столом он, впрочем, был воздержан, но, работая у себя в кабинете, обязательно выпивал. Его служанка так хорошо знала это, что как только он приготовлял бумагу для композиции и брался за виолончель, сейчас же появлялась с кувшином и стаканом, и содержимое кувшина время от времени возобновлялось. Никогда не бывая пьян, он всегда был под хмельком, и это было поистине жаль, потому что, в сущности, он был добрый малый и такой веселый, что маменька звала его не иначе, как «котенком». К несчастью, он любил свое искусство и работал много, но пил столько же. Это влияло на его здоровье, а в конечном счете и на расположение духа. Порой он бывал сумрачен и обидчив. Не способный к грубости, не способный обидеть кого бы то ни было, он ни разу не сказал дурного слова, даже маленьким певчим; однако не надо было обижать и его; и это было справедливо. Но беда была в том, что, не имея большого ума, он не разбирался в оттенках и в характерах и часто принимал муху за слона.
Старинный капитул Женевы, принадлежность к которому некогда считали за честь для себя принцы и епископы, в изгнании потерял былую пышность, но сохранил гордость. Чтобы получить в него доступ, по-прежнему надо было быть дворянином или доктором Сорбонны, и если есть извинительная гордость, то это прежде всего гордость, основанная на личных заслугах, но затем также и та, которая основана на происхождении. К тому же все священники, которые держат у себя на службе мирян, обычно обходятся с ними довольно высокомерно. Именно так обращались зачастую каноники с бедным Леметром. Особенно регент, аббат де Видони, – человек, впрочем, очень любезный, но слишком кичившийся своим благородным происхождением; он не всегда относился к Леметру так, как заслуживали его таланты, а тот, в свою очередь, неохотно мирился с этим пренебрежением. В тот год на Святой у них произошло столкновение более резкое, чем раньше, – за обедом, который епископ, по обыкновению, давал каноникам и на который Леметра всегда приглашали. Регент довольно бесцеремонно с ним обошелся и сказал ему какую-то грубость, которую тот не мог переварить. Он тут же принял решение бежать следующей ночью, и ничто не могло заставить его изменить это решение, хотя г-жа де Варанс, к которой он пришел проститься, приложила все усилия, чтобы успокоить его. Он не мог отказать себе в удовольствии отомстить своим тиранам, поставив их в затруднительное положение в праздник Пасхи, когда в нем особенно нуждались. Но он сам был в большом затруднении, он хотел увезти с собой ноты, что было делом нелегким, так как ими был наполнен целый ящик, довольно большой и настолько увесистый, что его нельзя было унести под мышкой.
Маменька поступила так, как поступил бы и я на ее месте. После многих тщетных усилий удержать его, видя, что он решил уехать во что бы то ни стало, она вознамерилась помочь ему всем чем могла. Осмеливаюсь заметить, что это был ее долг: Леметр, можно сказать, посвятил всего себя службе ей. Во всем, что касалось его искусства, и во всем, что относилось к ее делам, он был всецело в ее распоряжении, и сердечность, с которой он служил ей, придавала его любезности особую цену. Таким образом, она только возвращала другу в важном для него случае то, что он делал для нее по мелочам в течение трех или четырех лет; но душа была у нее такая, что для исполнения подобных обязанностей ей вовсе не надо было думать о том, что было сделано лично для нее. Она позвала меня, приказала мне проводить г-на Леметра по крайней мере до Лиона и оставаться при нем до тех пор, пока я буду ему нужен. Впоследствии она призналась мне, что желание отдалить меня от Вантюра сильно способствовало этому решению. Она посоветовалась со своим верным слугой Клодом Анэ о перевозке ящика. Он был того мнения, что, вместо того чтоб нанимать в Аннеси вьючное животное, которое неизбежно выдало бы нас, надо отнести ящик ночью на руках на известное расстояние и потом нанять в деревне осла, чтобы доставить ящик до Сейселя, где, находясь на территории Франции, мы уже ничем не будем рисковать Его совет был принят, и в тот же вечер, в семь часов, мы отправились; маменька под предлогом оплаты моих издержек наполнила кошелек бедного «котенка» далеко не лишним для него прибавлением. Клод Анэ, садовник и я кое-как дотащили ящик до ближайшей деревни, где нас сменил осел, и в ту же ночь мы отправились в Сейсель.
Я, кажется, уже упоминал о том, что по временам бываю так мало похож на самого себя, что меня можно принять за другого человека, с характером, прямо противоположным моему собственному. Сейчас придется рассказать как раз о таком случае. Г-н Рейдле, кюре в Сейселе, был каноником св. Петра, – следовательно, знал Леметра, и от него-то последний должен был больше всего скрываться. Вместо того я посоветовал Леметру пойти представиться ему и под каким-нибудь предлогом попросить у него крова, как будто мы прибыли туда с разрешения капитула. Эта идея, придавшая мести Леметра насмешливый и забавный оттенок, пришлась ему по вкусу. И вот мы нахально явились к г-ну Рейдле, который принял нас очень хорошо. Леметр заявил, что по просьбе епископа направляется в Белле управлять хором во время праздника Пасхи и рассчитывает вернуться через несколько дней, а я, чтобы поддержать эту басню, сплел целую сотню новых, настолько правдоподобных, что г-н Рейдле, находя меня красивым мальчиком, отнесся ко мне благосклонно и обласкал меня. Нас хорошо накормили и уложили спать. Г-н Рейдле не знал, чем только угодить нам, и мы расстались лучшими друзьями, дав обещание остановиться у него подольше на обратном пути. Мы еле могли дождаться минуты, когда останемся одни, чтобы разразиться хохотом, и, признаюсь, при одном воспоминании об этом меня снова разбирает смех, так как невозможно представить себе проделки более удачной и лучше разыгранной. Она увеселяла бы нас всю дорогу, если б только с Леметром, не перестававшим пить и нести околесицу, не случилось два или три припадка, к которым у него была склонность и которые очень напоминали падучую. Это поставило меня в затруднительное положение, очень меня испугавшее, и мне захотелось любым способом поскорее выпутаться из него.
Мы, как и сказали г-ну Рейдле, отправились в Белле провести праздник Пасхи и, хотя нас там не ждали, были встречены учителем музыки и приняты всеми с большой радостью. Г-н Леметр пользовался вполне заслуженным уважением за свое искусство. Учитель музыки в Белле счел за честь для себя познакомить его с лучшими своими произведениями и постарался снискать одобрение такого хорошего судьи, так как Леметр был не только знатоком, но и человеком справедливым, чуждым зависти и лести. Он был настолько выше всех провинциальных учителей музыки, что они, сами хорошо понимая это, видели в нем скорее своего главу, чем собрата.



