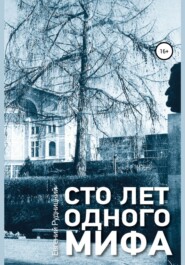 Полная версия
Полная версияСто лет одного мифа
В тот год на фестивале было много хлопот с костюмами – необходимо было одеть в соответствии с новыми декорациями девушек-цветов в Парсифале и сшить костюмы для новой постановки Мейстерзингеров. После того как супругов Байдлер полностью отстранили от участия в семейном предприятии, предоставлять эту честь Изольде было уже не с руки. Поэтому Зигфрид предложил возглавить костюмерную мастерскую Даниэле. Трудно сказать, сам ли он дошел до этой мысли, или его попросила пристроить ее в Дом торжественных представлений единоутробная сестра, но Даниэла оказалась там на своем месте и выполняла эти обязанности на протяжении многих лет. Чтобы понять, почему Даниэле пришлось сменить комфортное и престижное положение жены известного профессора-искусствоведа на прозябание в качестве приживалки при байройтском семействе, следует вернуться на несколько лет назад и уяснить, что представляло собой ее и Генри Тоде чисто формальное супружество.
Зять Козимы оправдал возложенные на него надежды и включил в свои учебные программы, наряду с эстетикой итальянского Ренессанса, эстетику немецкого Возрождения, увязав ее в какой-то мере с теоретическими работами Вагнера, которые также изучали в Гейдельбергском университете, однако этот симбиоз имел самые неожиданные последствия. Чтобы вполне соответствовать воззрениям байройтского круга, при изучении творчества Арнольда Бёклина, Ганса Томы, Рихарда Вагнера или Альбрехта Дюрера, Тоде обнаружил националистическую узколобость, а в качестве врага национального искусства выбрал художника еврейского происхождения Макса Либермана, выдвинув против него традиционные обвинения в подражании французским импрессионистам (что, по его мнению, было само по себе огромным изъяном) и в «недостатке национального восприятия». Известный своим остроумием художник не только ответил ему в своей статье в газете Frankfurter Zeitung по существу, но и привел анекдотический случай, который якобы имел место во время визита Генри Тоде к пожилому и плохо слышавшему археологу Эрнсту Курциусу. По словам Либермана, Тоде вплотную подошел к ученому и крикнул ему прямо в ухо свою фамилию, на что пожилой господин, услышав слово «тод» (что по-немецки значит «смерть»), спросил печальным голосом: „А долго ли мучился?“». О муже Даниэлы иронично отзывался также политолог и геополитик Адольф Грабовский: «На свое несчастье, он взял жену из дома Ванфрид и с тех пор считает себя хранителем сокровищ Байройта, а поскольку Байройт, как известно, символизирует духовные силы Германии, – то и хранителем всей Германии. Теперь каждое высказывание Тоде – это обращение к немецкой нации. Но такие одежды для него слишком велики. Чтобы они пришлись ему впору, он их подбивает фразеологией. Он часто бывает прав – но в какие речи он облекает свою правоту!» Столь дерзких отзывов двух евреев о немецком профессоре было достаточно, чтобы сделать Тоде идейным антисемитом, даже если он им никогда не был; в этом отношении Тоде полностью соответствовал взглядам принявшей его семьи. В 1907 году он вступил в основанный немецким художником и искусствоведом Германом Гендрихом Союз Верданди (его членом был также друг Зигфрида Франц Штассен) и даже вошел в его руководство. Названный в честь древнегерманской богини (норны) Верданди, союз имел славу крайне реакционной организации и выступал против любых модернистских течений в искусстве. О деятельности этого объединения, ставившего, в частности, своей целью спасение немецкого искусства с помощью идей Вагнера и действовавшего от его имени Тоде, с издевкой писал известный искусствовед, меценат и публицист граф Гарри Кесслер, получивший в период Веймарской республики прозвище «красный граф»: «Величайший декадент как противоядие от декадентства – довольно забавный рецепт». А газета Berliner Börsen-Zeitung иронизировала: «Кто хочет выглядеть как денди, вступает в Союз Верданди». Одновременно газета вынесла окончательный приговор: «Союз Верданди – самое большое надувательство последнего времени».
Весной 1909 года Генри Тоде познакомился в Гейдельберге с молодой скрипачкой из Дании Гертой Тегнер, которая прибыла из Парижа, где училась у Жака Тибо. Когда Даниэла в очередной раз находилась на лечении в санатории в итальянском Мадерно, ее муж устроил дома прием в честь своей новой возлюбленной, а на следующий год взял Герту с собой на фестиваль в Байройт, где она жила в одной квартире с супругами Тоде. Самое удивительное, что Даниэлу волновала не столько любовная связь мужа, которую тот не находил нужным скрывать ни от нее, ни от окружающих, сколько возможное неарийское происхождение его подруги, которое, по ее мнению, могло испортить репутацию семьи. Однако на этот счет Генри успокоил свою жену, заверив ее в том, что у Герты, ее родителей, а также братьев и сестер «инстинктивное отвращение к евреям». Он также выражал свою признательность Даниэле за «дружелюбие», с которым она «отнеслась к милой юной барышне». Однако из письма бедной женщины доктору Швенингеру следует, что переживания, связанные с противоестественной ситуацией в семье, окончательно подорвали ее здоровье. По ее словам, она «не находила покоя и не могла заснуть по ночам, лежала по пять-шесть часов без сна и лишь к утру впадала в своего рода полудрему». В начале 1911 года она жила на вилле в Гардоне (север Италии), в то время как готовившийся выйти в отставку Генри разъезжал в сопровождении подруги с лекциями по Германии. Они побывали также на концерте Зигфрида в Бремерхафене, однако во время состоявшегося по окончании званого вечера тот по вполне понятным причинам обращался с зятем достаточно бесцеремонно и демонстрировал ему свое пренебрежение. По поводу ухода профессора Тоде со своей должности в Гейдельберге спустя несколько недель был устроен прием на четыре сотни человек; Даниэла все еще находилась на озере Гарда, а в качестве хозяйки гостей принимала Герта Тегнер. На фестивале, во время которого Даниэла впервые исполняла обязанности заведующей костюмерной мастерской, Генри и Герта появились в качестве уже сложившейся пары. На этот раз им не удалось соблюсти видимость невинных отношений, и Адольф Гросс потребовал от мужа Даниэлы объяснений, на что тот дал столь же невнятный, сколь и сентиментально пошлый ответ, заявив: «Судьба послала мне это милое дитя, у которого за веселой внешностью кроется большое, чистое сердце, глубокая серьезность и высокий образ мыслей». Чтобы разрядить атмосферу, Генри Тоде в сентябре снова прибыл в Байройт и объявил там о скором приезде жены, однако этот визит уже не мог никого обмануть. Чемберлен писал доктору Швенингеру: «Он говорил о прибытии Д., но не сказал ни слова о том, когда она собирается уезжать. Однако я ничего не упустил из сказанного им и прекрасно понял его план – тем более что человек, выглядевший в воскресенье разбитым стариком, в понедельник утром отбыл, радостно насвистывая. Он привез ее сюда, чтобы здесь оставить, а сам отправился вечером 1 октября обратно в Гардоне… затем сразу поедет читать лекции в сопровождении своей скрипачки». К тому времени пятидесятичетырехлетний Генри Тоде уже не мог жить без своей молодой возлюбленной, так что Рождество 1911 года он и его все еще не разведенная жена отмечали порознь.
* * *Как и у большинства больных туберкулезом, состояние Изольды в процессе лечения время от времени стабилизировалось, однако периоды относительного улучшения самочувствия сменялись новыми тяжелыми приступами кровохарканья и общего упадка сил. Она уже потеряла надежду объясниться с матерью и убедить ее в своей неизменной преданности – ей оставалось только бороться за выживание и думать о том, как обеспечить будущее сына. С середины июля до начала октября Изольда проходила курс лечения в клинике доктора Виггера в Партенкирхене. Лечащие врачи жаловались на то, что она не следует их предписаниям и к тому же часто выезжает в Мюнхен по делам, которые медики, с учетом тяжести заболевания, не воспринимали как серьезные. Вдобавок она наведывалась на озеро Гарда к Даниэле, по-видимому в поисках совета и утешения. Но та могла лишь поделиться собственными горестями. В то время Изольда вместе с сыном также посетила жившего неподалеку в Гармише Рихарда Штрауса. Разумеется, директор клиники прекрасно знал, что на нервном состоянии пациентки губительно сказывается ее семейная ситуация и это сильно затрудняет или даже сводит на нет все предпринимаемые им меры. В отчете о ходе лечения он писал: «Нормальному прохождению курса (и соответствующему поведению пациентки) очень мешали более чем неприязненные семейные отношения, которые часто вызывали сильнейшее возбуждение»; в связи с этим он рекомендовал исключить на один-два года (предполагаемый срок лечения) все ее контакты с членами семьи. После этого Изольда перебралась в Давос, где в местном санатории надеялась вылечить, наряду с собственным заболеванием, развившийся у сына туберкулез лимфатических узлов. На предложение Зигфрида, изъявившего готовность взять к себе на время племянника Буби (так звали в семье Байдлера-младшего), она ответила решительным отказом. Для ее сына лечение в Давосе оказалось весьма успешным, и вскоре он, не покидая матери, стал посещать местную школу.
Будучи в состоянии крайнего нервного истощения, Изольда в начале лета 1913 года узнала от брата Адольфа фон Гросса, что в связи с предстоящим сокращением доходов семья собирается уменьшить ее денежное содержание и имеет на это полное право, поскольку она официально считается дочерью Ганса фон Бюлова, а не Рихарда Вагнера. Для Изольды, считавшей себя не просто его родной, а еще и самой любимой дочерью, это известие стало еще одной душевной травмой, но самое главное – оно вызвало ее беспокойство за будущее сына, которого она считала возможным наследником семейного предприятия. Она сразу догадалась, что авторство этого проекта принадлежит изощренному интригану Чемберлену, и поспешила заявить в письме Еве о своих правах старшей дочери Вагнера. Она хорошо понимала, что причиной сокращения ее содержания связано с истечением в 1913 году срока охраны авторских прав, в связи с чем семья перестанет получать отчисления от сборов с постановок вагнеровских музыкальных драм. Однако она считала себя равноправной совладелицей семейного капитала, который благодаря усилиям и талантам Адольфа фон Гросса достиг к тому времени довольно значительной суммы. Козиму и Зигфрида внесли в список миллионеров Германии еще в 1909 году – тогда их состояние оценивалось в 6 000 000 марок. Изольда надеялась, что ей будет легче договориться с Зигфридом, и попросила его лично позаботиться о соблюдении ее интересов. Однако обиженный ее мужем брат даже не стал ей отвечать, а передал дело в руки супругов Чемберлен. Через некоторое время Ева написала Изольде, что у Зигфрида нет возможности вникать во все детали финансовых отношений в семье и он передал ведение дел своему мюнхенскому представителю, советнику юстиции доктору Францу Троллю. Этот господин был хорошим и давним знакомым Чемберлена, и тот получил таким образом возможность полностью контролировать взаимоотношения семьи с Изольдой – без ведома зятя Козимы теперь не принималось ни одно решение. Вскоре от д-ра Тролля пришло письмо, где речь шла о субсидиях, предоставляемых «совместно госпожой Козимой Вагнер и господином Зигфридом Вагнером». Из него следовало, что получаемые Изольдой средства являются добровольными выплатами и она не может предъявлять никаких претензий даже в том случае, если они будут сокращены или полностью прекращены. Это звучало скрытой угрозой: Изольде предлагали отказаться от претензий, поскольку иначе она может лишиться немалых доходов: как-никак сверх личного годового содержания в 12 000 марок и ежегодной арендной платы за мюнхенскую квартиру в 4000 марок ей оплачивали лечение в альпийских санаториях. Вдобавок д-р Тролль обещал, что, если Изольда последует совету матери и брата и поместит сына в закрытое учебное заведение, семья оплатит и его содержание. Разумеется, Изольда никак не могла согласиться с выдвигаемыми ей условиями. Ведь это было неслыханным унижением: ее не только не желали признать дочерью Рихарда Вагнера (и она прекрасно понимала, что это связано со стремлением лишить ее сына права стать законным наследником семейного предприятия), но и грозились отнять у нее ребенка.
Изольда была так возмущена тем, что ее хотят лишить законных, как она полагала, прав, предлагая взамен подачку, что хотела даже отказаться от средств на лечение, но по зрелом размышлении решила согласиться с доводами увещевавшей ее Даниэлы: «Я была рада узнать о тех мерах, которые предпринял Фиди, чтобы оплачивать это лечение до тех пор, пока в нем есть необходимость, так что отнесись к этому спокойно, моя бедная сестра, и не думай о том, чтобы одалживаться у чужих». Чтобы не иметь дела с изощренным крючкотвором Троллем, оскорбленная дочь Козимы решила нанять собственного адвоката и обратилась к потомственному мюнхенскому юристу доктору Зигфриду Диспекеру. Тому с самого начала было ясно, что у его подзащитной нет никаких оснований для выдвижения требований семье и она делает ставку на свое чисто моральное право считаться дочерью Рихарда Вагнера. Поэтому он взялся вести это дело, явно рассчитывая на его громкий резонанс в обществе. У Изольды же оставалась надежда на то, что мать не захочет раздувать скандал и согласится с ее доводами.
* * *Партитуру первого действия своей восьмой оперы Солнечное пламя Зигфрид завершил в Санта-Маргерита-Лигуре весной 1911 года, над вторым действием работал летом и осенью того же года, а третье действие закончил в конце марта следующего. Таким образом, сочинение музыки растянулось у него на целый год. Это была уже его вторая «историческая» опера после Банадитриха, но здесь действие разворачивается не в раннем Средневековье, а в эпоху Крестовых походов, и не во Франконии, а в Византии, куда прибывает отряд франконских крестоносцев. Чтобы завоевать любовь прекрасной Ирис, к ним присоединяется рыцарь Фридолин, которому композитор явно придал свои собственные черты. Но этот персонаж не так прост, поскольку собирающийся сражаться за святое дело доброволец в какой-то мере напоминает отдавшего жизнь за освобождение Греции Клемента Харриса. И хотя произошло это за пятнадцать лет до создания оперы, Зигфрид, как известно, не забывал своего друга до конца жизни. Отказавшись от участия в походе и встав на сторону бунтовщиков, Фридолин уподобляется уже скорее Зигфриду, нежели Харрису, а после того, как бунт против императора подавлен, он вынужден, чтобы избежать смертной казни, прикинуться сумасшедшим, обрить голову – что, по мысли автора, символизировало кастрацию (как и в случае библейского Самсона) – и стать шутом при византийском императоре. Таким, по-видимому, виделась Зигфриду его собственная драма как художника. Отец Фридолина осуждает малодушие сына, который, умирая, просит у него прощения. Это ли не осознание Зигфридом своего ничтожества по сравнению с великим родителем?
После фестиваля Зигфриду снова пришлось много выступать с концертами и дирижировать постановками своих опер. Поскольку в 1911 году отмечалось столетие со дня рождения Листа, его внук был нарасхват. Зигфрид дал несколько концертов в Лейпциге и Позене, а 22 октября, то есть в день юбилея, он выступил в Будапеште на концерте, программа которого включала Фауст-симфонию и Псалом XIII. За несколько дней до этого концерта в берлинском журнале Der Turm вышло интервью, которое Зигфрид дал посетившей его весной в Ванфриде журналистке Катарине Поммер-Эше. В нем, в частности, приводится его высказывание по поводу творчества Рихарда Штрауса: «Саломея, Электра и ничтожный Кавалер розы суть не что иное, как колоссальное расточительство. Композитор спекулирует на самых грязных, низменных стремлениях своих слушателей, использует их, чтобы делать деньги… Чтобы издавать ужасающие звуки, смычки скользят по несчастным струнам обратной стороной – древком. Я называю это не музыкой, а лихорадочным звукоизвержением или горячечной фантазией… Был бы жив мой отец, он поднял бы свой громовой голос против этого извращения, против осквернения его идеалов. Нормальным людям нужно давать обычные тексты и обычную музыку, которые им нужны, однако и полусвет, который довольствуется общением в собственных рамках, все же не решится сесть за стол, к которому подают кишащие бактериями и отравленные ядами блюда самого скверного свойства». Эти высказывания Зигфрида были, разумеется, скоропалительными; вдобавок он не удосужился, немного остынув, просмотреть подготовленный к печати текст и смягчить наиболее резкие формулировки. В результате читатели узнали все, что у него накипело на душе. После того как интервью перепечатали другие издания и оно получило громкий резонанс, Зигфриду пришлось оправдываться, и он поместил в газете Berliner Tageblatt частичное опровержение: «Я не признаю приписываемых мне слов – во всяком случае, они не были предназначены для широкой публики, поскольку я не могу судить о произведениях, которые знаю лишь отрывочно. Я не слышал ни Электру, ни Саломею, ни Кавалера розы. Рихарду Штраусу давно известно, что мне глубоко чуждо то направление, которого он придерживается в последние годы». Кроме того, опубликовавшая интервью Поммер-Эше добавила в него кое-что лишнее: не раз использовавший в своих партитурах прием col legno (древком смычка) Зигфрид не мог возражать против его применения своим соперником, вдобавок он и сам грешил «спекуляцией на самых грязных, низменных стремлениях своих слушателей» – достаточно вспомнить сюжеты его опер Кобольд или Царство черных лебедей. Однако, пытаясь оправдаться, он допустил другие опрометчивые высказывания, заявив, в частности, что журналистка застала его врасплох, он был в домашней одежде, не успел побриться и думал только о том, как бы поскорее отделаться от назойливой гостьи: «О Штраусе можно много говорить! Можно! Но я размышлял только над тем, как бы мне с этим покончить и вернуться к своей работе. В любом случае меня вскоре постигнет наказание за мою рассеянность, поношенную утреннюю куртку и небритость!.. На протяжении многих лет я стараюсь молчать! В этом я хотел бы быть достоин моего учителя Хумпердинка! И все шло великолепно вплоть до этого осеннего происшествия! Если бы я был по крайней мере выбрит! Что могла подумать дама о моей неаккуратности?» Ссылки на небритость и досаду оттого, что его отвлекли от занимавших его мыслей, выглядят по-детски наивными, но небрежный внешний вид мог в самом деле выбить Зигфрида из колеи; об этом свидетельствуют, в частности, мемуары упомянутого русского музыковеда Сабанеева, который встречался с ним в Москве в компании со знаменитым дирижером Сергеем Кусевицким и его женой: «Зигфрид уже во время тоста Кусевицкого все время беспокойно и тоскливо смотрел на рукав своего костюма, на котором виднелось черноватое маслянистое пятно. „Это пятно, наверное, нельзя вывести“, – наконец промолвил он с тоской в голосе. „Не беспокойтесь, маэстро, – отвечал Кусевицкий, – нет ничего легче, как вывести, это сущие пустяки“. „Я сама приму меры“, – сказала Н. В. Кусевицкая. Кусевицкий наклонился ко мне и сказал мне по-русски: „Он задел за что-то рукавом, выходя из автомобиля“, – и вот сам не свой, – „что-то у него тут не ладится“ (он показал на голову). „Скажите нам лучше ваше мнение о музыке Германии“, – сказала Наталья Константиновна Кусевицкая. „Я полагаю, что костюм испорчен“, – отвечал Зигфрид Вагнер печально. Как ни старались гостеприимные хозяева перевести разговор на музыкальные рельсы, он упорно возвращался к рукаву и костюму». Как бы то ни было, оправдания Зигфрида в немецкой прессе выглядели достаточно неуклюже и вызвали новые язвительные реплики. В частности, в журнале Musik появилась издевательская заметка под названием «Фиди о Рихарде до и после бритья»; сопоставляя масштабы дарований Рихарда Штрауса и Зигфрида Вагнера, ее автор сделал вывод явно не в пользу последнего. Сам же Штраус не стал отвечать Зигфриду на его критику, отреагировав впоследствии только на обвинение Зигфрида в спекуляциях: «Все же я живу на доходы от своего магазина, а не от предприятия моего отца». Хотя многие разделяли критическое отношение Зигфрида к его сопернику, призрак Штрауса продолжал преследовать сына Мастера, в том числе в сновидениях, до конца жизни. Много лет спустя он рассказывал одному своему другу, что видел во сне, будто он стоит перед оркестром в одной ночной рубашке и тут к нему подкрадывается сзади Штраус и начинает задирать рубашку все выше и выше.
В январе 1912 года Зигфрид дирижировал концертами в Гамбурге и Любеке, где, в частности, познакомился с начинавшим свою карьеру двадцатишестилетним Вильгельмом Фуртвенглером. Искусство Фуртвенглера-дирижера произвело на Зигфрида глубокое впечатление, и в дальнейшем он постоянно имел его в виду в качестве одного из байройтских капельмейстеров, однако тот дебютировал в Доме торжественных представлений только после его смерти, уже будучи мировой знаменитостью и признанным интерпретатором Рихарда Вагнера. В одном из любекских концертов будущий великий дирижер выступил также в качестве аккомпаниатора: в его фортепианном сопровождении известный тенор Карл Эрб исполнил два Сонета Петрарки Листа, рассказ Лоэнгрина о Граале и «Солнечный напев» Виттиха из Банадитриха. В программу симфонического концерта под управлением Зигфрида вошли вступления и увертюры к операм Кобольд, Весельчак, Повеление звезд и Банадитрих, а также танец на празднике освящения церкви из Герцога-вертопраха.
После того как Зигфрид завершил в Италии партитуру Солнечного пламени, он дал в мае грандиозный концерт в лондонском Альберт-холле, благодаря которому английская публика получила возможность составить себе достаточно полное представление о его творчестве. Помимо «Солнечного напева» из Банадитриха и дуэта «Грезы любви» из Царства черных лебедей в концерте прозвучали праздничный танец из Герцога-вертопраха, вступление к Кобольду, увертюра к Повелению звезд и вступление к Банадитриху; в программе значилось более понятное для публики английское название последней оперы – Dietrich the Baned («Отлученный Дитрих»). Через три дня она была впервые исполнена в Венской придворной опере; постановкой дирижировал будущий директор этого театра Франц Шальк. Чтобы упростить задачу постановки сложной сцены дикой охоты, на экран проецировали заранее отснятые кадры, а поскольку сценическое действие следовало привести в соответствие с экранным, действующим лицам пришлось побегать по сцене, что дало повод критику Юлиусу Корнгольду (отцу композитора Эриха Корнгольда) иронически заметить: «Действующие лица, и не в последнюю очередь главный герой, мелькают, как на киноленте». По общему мнению, эта постановка оказалась более слабой, чем постановка в Фольксопер, в том числе из-за использованных в целях экономии костюмов из постановок музыкальных драм Рихарда Вагнера.
Очередной фестиваль в Байройте не принес почти ничего нового по сравнению с предыдущим. Ганс Рихтер в последний раз дирижировал Мейстерзингерами, и в обращенной к нему речи Зигфрид отметил, что хотел бы сохранить к шестидесяти девяти годам такую же бодрость, чтобы продолжить увлекшую его работу по усовершенствованию сценического освещения в Доме торжественных представлений. Бодрость же уходящего на покой капельмейстера он в шутку связал с молодильными яблоками, которые поселившийся в Байройте Рихтер выращивает в своем саду. Однако действие этих яблок, если оно и имело место, было недолгим: через четыре года старый друг вагнеровского семейства скончался. Это произошло в 1916 году, через сорок лет после его выступления на первом фестивале. Во время фестиваля Зигфрид встретился с высокопоставленным любителем музыки и вагнерианцем – великим герцогом Гессенским Эрнстом Людвигом, который загорелся идеей поставить у себя в Дармштадте Солнечное пламя, однако из-за начавшейся войны ее премьера, как и премьера Царства черных лебедей, состоялась только в конце 1918 года.
* * *Весной 1913 года, помимо выступления в театре Лисеу, Байдлер провел в Барселоне серию концертов к столетию со дня рождения Рихарда Вагнера. В одном из концертов были исполнены увертюры и отрывки из Риенци и Летучего Голландца, в другом прозвучали отрывки из Мейстерзингеров. 22 мая Байдлер дирижировал на юбилейном концерте «Вступлением и смертью Изольды» из Тристана и первым действием Валькирии. Но главным событием той весны стали три вечера, в которых был исполнен Парсифаль – хотя и в виде отрывков, но почти целиком. Таким образом, оправдались самые пессимистические прогнозы Ванфрида в отношении мужа Изольды: он не только первым исполнил в Барселоне Парсифаля, но сделал это фактически за несколько месяцев до истечения срока охраны авторских прав. Возмущение наследников Рихарда Вагнера усилилось еще больше из-за того, что в афише концерта Байдлера именовали «директором вагнеровского театра в Байройте»: ведь он не только не был байройтским директором, но на протяжении последних лет там даже не появлялся. По-видимому, устроившее этот концерт Вагнеровское общество догадывалось, что он может вызвать в Байройте недовольство, и поэтому постаралось его предупредить, отметив в программе концертов: «Организаторы думали главным образом об исполнении еще неизвестной нашей публике музыкальной драмы Вагнера. Однако то обстоятельство, что это произведение не может быть поставлено до будущего года, вынудило нас добиться разрешения на его исполнение в форме концертов. Благодаря симпатии, испытываемой потомками Рихарда Вагнера к нашему обществу, мы получили привилегию показать драму если не в полном виде, то, по крайней мере, частями, и это позволит нашим слушателям познакомиться с Парсифалем и подготовиться к его будущему сценическому воплощению». Ссылка на «симпатию потомков» к Вагнеровскому обществу Барселоны выглядела довольно неловкой хитростью: даже если организаторы концертов получили разрешение на исполнение отрывков из Парсифаля (о чем не сохранилось никаких сведений), в Ванфриде никак не могли предположить, что на самом деле речь идет о почти полном концертном исполнении сценической мистерии, да еще под руководством ненавистного Байдлера. Все же Испания – не первая (не считая не присоединившихся к Бернской конвенции США и Нидерландов) страна, где Парсифаль прозвучал вне байройтского контекста: в январе 1913 года Адольф фон Гросс уже угрожал подать в суд на Городской театр Цюриха, премьеру в котором назначили на апрель. Однако у него ничего не вышло, поскольку при определении окончания срока действия закона об охране авторских прав швейцарская версия исходила не из окончания года смерти автора произведения, а из даты его смерти. В этом смысле оперный театр Барселоны оказался безукоризненно точен. Премьерное представление Парсифаля, которым, разумеется, дирижировал Байдлер, началось за полчаса до наступления нового, 1914 года и продолжалось до пяти часов утра. Как и ожидалось, в главной партии триумфально выступил Франсиско Виньяс, а в партии Кундри – уроженка Варшавы Марго Кафталь; впоследствии она с успехом пела эту партию, а также партию Брюнгильды в миланском театре Ла Скала под управлением Тосканини. На следующий день газета La Vanguardia опубликовала пространную статью о премьере с фотографиями исполнителей и декораций. Представление пользовалось таким успехом, что его пришлось повторить за короткий срок еще тринадцать раз. Как и следовало ожидать, в первые дни 1914 года премьеры Парсифаля состоялись во многих театрах Германии и других стран Европы: в Лондоне, Париже, Мадриде, Будапеште, Барселоне, Болонье, Берлине, Франкфурте. Несмотря на сверхвысокие цены, в лондонском Ковент-Гардене билеты были распроданы сразу на шестнадцать представлений, а одно место в ложе театра Франкфурта стоило 125 марок, что соответствовало месячному заработку рабочего. В Ванфриде все это рассматривали как окончательное «ограбление Грааля», а Байдлера считали одним из его виновников.



