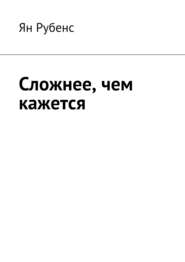
Полная версия:
Сложнее, чем кажется
– Кажется, да.
– Ты же умеешь ходить поперек страха… Ну?
– Да…
– Ты готов?
– Я попробую.
– Еще раз слушай меня, сосед… пробовать можно, когда попыток несколько. У тебя попытка – одна. Повторяю вопрос: ты готов? Ну!..
– Да!..
– Врешь. Не готов еще… Но за два с половиной дня подготовишься. А с этой кашей… – он кивнул на окно, – не думай больше. Разберусь показательно. – Олег встал, пару раз прошелся по комнате, закинув короткие плотные руки за спину, повернулся к Рубенсу и сказал тихо и страшно, – Если ты не придешь, ты для меня сдохнешь. Я не люблю ошибаться в людях и не прощаю им своих ошибок. Простить могу испуг и растерянность, тем более тебе… но не прощу страха и слабости… Ты меня понял?
– Да… Я приду.
– Точно?
– Точно.
– Так я пошел?
– Ну да… Спасибо.
Олег кивнул.
– До понедельника? – еще раз обернулся он от двери, с недоверием глядя в заплаканные светло-серые глаза.
– До понедельника. – Ян старался держать спину прямо.
– Я в воскресенье позвоню. Проверю. – Олег погрозил пальцем.
– Хорошо…
И Каретный ушел.
Ну ребятёнок же совсем… – с досадой сжимал губы Каретный, спускаясь по лестнице, – ну как же бросить-то его… Сожрут же!
Ян оделся. С трудом преодолевая слабость и дрожь в руках и ногах, достал из принесенной сумки тетради, разложил учебники и сел за стол.
В тот день ни одного задания сделать не получилось.
Но вечером он поел. На кухне. Со всей семьей.
Отмолчимся
Юля действительно жила далеко, из-за ремонта дорог действительно были пробки, и в галерею они опоздали не на полтора часа, а на два. И Эльза действительно была готова их убить – Яну срочно необходимо утвердить семь рецензий на трех языках. Он утвердил… В конце концов, Холостов уволок изможденного Рубенса на балкон, сунул ему в руки большую чашку кофе, закурил.
Вид с балкона галереи открывался на парк и на прудик, где плавали утки. Май был теплым, ветер слабым. Рубенс прикрыл глаза: наконец-то можно забыть и студентов, и подготовку к выставке, и рецензии, которые Эльза писала за него по-настоящему хорошо, и непонятно, зачем до сих пор все с ним утверждает. Слышно, как где-то невдалеке едут по бульварам машины. Внизу простучали каблуки. Можно весь день забыть. И Юлю можно забыть. И тут – как удар в ухо – Холостов:
– Расскажешь?
– Что? – Ян вздрогнул.
– За что так разозлился на эту девочку?
– Она полезла, куда ее не звали, – не даст забыть…
– А ты всегда лезешь только туда, куда зовут? Что за шоу ты устроил? Тебя тот парень в восьмом ряду звал? Для кого было выступление? Ты перед кем рисовался?
Холостов смотрел с балкона вниз, и сам не понимал, ждал ли он честного ответа или и так его знал. Пауза перестала быть «мхатовской», кто-то явно не знал свой текст.
– Отмолчишься? – с некоторой надеждой спросил Костя, не сводя глаз с уток.
– Отмолчусь, – Ян разглядывал облака.
Рубенс тихо радовался тому, что Костя не требует ответа, а Костя уже боялся этот ответ получить, он продолжал спрашивать себя: неужели Ян все во мне видит?.. Но ответ услышать ему, пожалуй, не хотелось. Обоим лучше говорить о Юле.
– А на нее ты разозлился, как только она спустилась. Я видел. Она и сказать-то ничего не успела. За что ты?
Ян скривился. Глупо признаться, что он чувствовал угрозу: такие глаза на него смотрели… Он как будто видел их уже, но ведь это невозможно, он бы запомнил, как запоминал любые лица. А глаза эти видели его насквозь. Кто же захочет, чтоб его видели насквозь! Эпизод в лифте и вовсе заставлял Рубенса вздрагивать и он даже потряхивал головой, словно пытаясь вытряхнуть из нее воспоминания. Но забывать он не умел, и хлипкая кукла-недодевочка стояла перед ним, будто настоящая, прижимая к себе дурацкий портрет, и выворачивая на изнанку страшную тайну, которую Ян защищал из последних сил. Каким-то чудом он знал, что она видит еще больше, чем говорит, хотя, казалось бы – уж куда больше? Глупо все это, таинственно и неубедительно. Паранойя, страхи, комплексы. Вряд ли Костя ждет сейчас подобных философских этюдов. Видя, как он набирает воздух, чтобы, видимо, повторить вопрос, Рубенс выпалил:
– Костя, ты любишь своих фанаток?
– Ну, смотря что с ними делать! – Холостов прищурился, самодовольно скривил губы, склонил голову набок, как будто прицениваясь к кому-то.
– Ну а мне с ней что делать?
– А кто тебе сказал, что она твоя фанатка?
– А чего она так на меня пялилась?
– А чего тебя это так разозлило? Ты разве что не пнул ее, когда отправил на место. За что? И о какой болезни она говорила?
Сопротивляться Холостову бесполезно… Ян даже обвинил его в коварных и подлых планах, в попытках склонить к гетеросексуальным отношениям, чем заставил Костю смеяться в голос.
Но каждый день он продолжал задавать Яну вопросы из одной обоймы: чем вы оба больны? Почему ты разозлился? Чем она так сильно тебе не понравилась? Почему так долго ее провожал? Что она тебе сказала? Так продолжалось неделю. Рубенс бесился, но взорвался он по другой причине. Выяснилось, что Костя за эти дни уже съездил к Юле, уже с ней почти подружился и пригласил ее в гости.
– Куда? – чуть не задохнулся Ян.
– К нам, – спокойно ответил Холостов.
Перед Рубенсом в полный рост встала настоящая угроза. И что делать? Сбежать, чтобы Юля не углядела в нем еще чего-нибудь, глубоко запрятанного, или остаться, чтобы хоть как-то контролировать их с Костей общение. Однако, судя по тому, что поведение Холостова пока не изменилось, Юля ничего еще ему не выдала… Остаться.
Ян боялся, продолжал злиться, но у него получалось вести себя вполне уверенно: уроки Эльзы не прошли даром, и теперь он с кем угодно мог представить себя на пресс-конференции: «Держись расслабленно и слегка небрежно, пусть думают, что тебя не волнуют их вопросы, – интереса будет больше». Эти слова Эльзы он повторил про себя много раз, прежде чем сообразил – зачем ему еще больше Юлиного интереса?! Но было поздно.
Костя общался с гостьей действительно легко, сама она по-прежнему говорила мало. Глаза ее – большущие и голубые, казались всегда готовыми заплакать… Ян называл ее тщедушной недодевочкой, Холостов предпочитал слово «куколка».
– Она красива, Рубенс! Она мне нравится, – любовался Юлей Костя.
Этого еще не хватало! – сходил с ума Ян, зная, с какой легкостью добивается этот донжуан расположения любой женщины. Но он видел, кто на самом деле нравится Юле, и решил пойти ва-банк. Не зная, как победить Костю, как отрезать их друг от друга, как не дать ему влезть через нее в свои тайны, Ян решил сам стать Юле другом. Это оказалось более чем легко, и вскоре он даже расслабился, поняв, что такую преданность, какую дарила ему эта полупрозрачная девочка, он еще не встречал, и вряд ли встретит. И спустя некоторое время, когда страх перестал застилать глаза, Ян увидел, что нечего ему бояться, не раскроет она никому его страшные тайны, никогда не выдаст, не сдаст, не предаст.
И Рубенс выдохнул. Юля стала появляться в пентхаусе чаще. У нее даже появилась некая обязанность – подбирать для Яна книги по теме замысла или просто по любой нужной ему теме. Каким-то, опять же необъяснимым образом, она чувствовала, какие авторы окажутся ему по душе, а каких стоит предлагать только при крайней бедности материалов по предмету.
Костя, в итоге, плюнул, признав свое поражение. Нет, Юля не интересовала его как женщина – он любил, когда «есть за что подержаться», но то, что до тайн Рубенса с ее помощью не добраться, он уяснил довольно быстро. Костя был нужен ей только при затруднениях с английским, – часто литературы, необходимой Яну, на русском не было. Итак, убедившись, что сражение проиграно, Костя отступил.
Зато завелась Эльза. Она с самого начала отнеслась к новой гостье холодно и высокомерно, ее раздражало раболепие в этих куклообразных глазах. Еще больше ее возмущало, что притащил это тщедушное создание именно Холостов. Эльза как женщина, знающая мужчин, не могла поверить, что у самого Кости были планы на эту «доску». Так зачем все это затевалось? И кем? Деловая женщина не могла вникнуть в суть Костиной провалившейся интриги. Да ей и в голову не могло прийти, что были у него какие-то тайные планы, потому что уж кто-кто, а Холостов был наихудшим политиком и интриганом из всех знакомых ей мужчин. Непонимание злило ее еще больше.
– Ты просто ревнуешь, Эльза, – отмахивался Холостов, – привыкла быть единственной женщиной в жизни Рубенса?
Костя так и не встал на ее сторону, продолжая защищать «куколку» от любых нападок «королевны». Эльза бы стерпела, смирилась, в конце концов, ее статусу эта недокормленная барби точно не угрожает, но вот Ян стал общаться с Юлей больше и чаще, и – кажется, ближе, и Костя продолжает защищать этот ходячий скелет! Я все равно незаменима, – твердила себе Эльза. Предел ее терпению наступил, когда Юля осталась ночевать в пентхаусе.
– Эльза, я не понимаю, что с тобой? У них там свет горит! Они просто общаются! Что между ними вообще может быть? Ты что, правда – ревнуешь?
– Костя, чего ты орешь?
– Да ты сама сейчас орала громче меня! Давай, мамочка, сходи, выгони девочку. А то вдруг сыночек примет другую религию, да не с тобой, да?
– Холостов… я ведь найду способ тебе отомстить.
– Да брось ты, Эльза! – он опять махнул рукой, не придав большого значения ни своим, ни ее словам.
Но Эльза не бросит… Она простит: они давно дружат, живут в одном доме, им одинаково дорог Рубенс, они уже не раз ругались, и это нормально, когда все так близко на одной территории и во всех делах тоже вместе… Она простит. Но не бросит и не забудет.
– Ну перестань, Эльз… Ничего между ними не будет. Ну? – он приобнял ее за талию. – Красотка! Кто ж с тобой станет тягаться? Они разговаривают.
– Как-то много в последнее время, – Эльза вывернулась из Костиных объятий.
– Так и что?
– А ты знаешь о чем, Костя? Ты знаешь – о чем – они так много разговаривают?
Эх, хотел бы он знать! Но подслушивать – не его стиль.
Через две палаты
Все случилось за пару секунд. Но когда Эльза вспоминала эти секунды, события проплывали в памяти как при замедленной перемотке. Они идут, о чем-то разговаривают, охранники уже готовы открыть дверцы машины, но почему-то Артур медленно берет Яна за локоть, а голова его повернута куда-то вправо. Эльза шла позади них и обратила на это внимание. Рубенс еще приостановился, хотел, чтобы они все выровнялись, и вдруг Артур резко толкает его. Так резко, что Ян почти отлетает, сшибая Эльзу. Артур вскидывает правую руку и, разворачиваясь, падает на Яна. Раздаются хлопки. Кто-то кричит…
Что кричала она сама, Эльза поняла не сразу. Потом кричали уже все. Она приподнялась и увидела страшную картину, которую долго еще будет вытравливать из памяти…
На спине, раскинув руки, лежит Рубенс и неестественно тупо смотрит в небо. На него так же неестественно тяжело падает Артур, и когда его голова ударяется Рубенсу в грудь, из горла Яна с резким хрипом вырывается фонтанчик густой, почти черной крови, заливает пол-лица, он закрывает глаза и голова его падает набок. Артур лежит на нем, не шевелясь.
Все неестественно быстро! Эльзе казалось, что кричит она очень долго. А охрана бежит очень медленно. Еще хлопок, и кто-то упал – между ними и машиной. Краем глаза Эльза видит, как охрана разворачивается и бежит к упавшему, а сама все смотрит и смотрит на лицо Рубенса. Неживое, залитое кровью лицо…
В Центр хирургии и травматологии в тот вечер одновременно поступило три пациента. Ян Рубенс с проникающим ранением в область правого легкого, Артур со сквозным ранением левого легкого. И нападавший, кому Артур раздробил и правую ключицу, и плечо, выстрелив подряд три раза, а другой охранник прострелил правую ногу чуть выше колена, чтобы не убежал.
– С таким калибром можно было нас обоих прострелить насквозь. Как живы остались – не пойму, – говорил Артур Эльзе, когда пришел в себя.
– А ты знаешь, что это тот самый, кто на пресс-конференции задал вопрос про Панфилова? – Эльза нервно бегала по палате. – И он же звонил мне перед самым выездом за несколько дней до презентации. Я вспомнила его голос. Помнишь, когда я подумала…
– Помню, – оборвал ее Артур. – Есть предположения, кто он?
– Ни единого!
– Как Рубенс?
– Очнулся…
– Насколько тяжел?
– Врачи говорят – недели две, и будет как новенький. Все обошлось. У тебя хуже…
– Я должен завтра встать на ноги…
– Даже не думай!
– Я не буду думать, я встану… Где этот?
– Через две палаты. В коридоре два мента.
– Почему два?
– Потому что так распорядилось их начальство. Видишь ли, тут, пока вы оба спали, самый-самый сделал заявление, что Рубенс – наше национальное достояние, и я, говорит, думаю, что будет сделано все для того, чтобы… ну и так далее. Через час в больницу понаехали и люди в штатском, и куча чиновников. Кого тут только не было!
– Это сказки на ночь?
– Это события тех трех дней, что ты пролежал без сознания.
– Трех дней?
– Да. А ты думал, все вчера случилось? – Эльза вздохнула. – Еще Каретный приходил. Все радовался, что каждые два года имеет счастье навещать Рубенса в какой-нибудь больничной палате. И смех, и грех. – она всплеснула руками, – сказал, что у нашего друга самая опасная профессия в мире. И что он больше не знает людей, которым «везет» с такой завидной регулярностью… Он тоже выставил своих парней. В общем, вся больница в двойном кольце оцепления. В первом милиция, во втором – бандиты.
– Красивая картинка… Вернемся к стрелявшему. Он пришел в себя?
– Может, мне его проведать? – Эльза возмущенно вздернула голову.
– Ах, что вы, что вы, мэм! Это ниже вашего достоинства, – процедил Артур. А потом сказал очень жестко: – Узнай.
Закрыл глаза и отвернулся, насколько позволяли трубки. Завтра надо встать.
Артур встал. И пришел в палату к Яну.
– Ты доложен вспомнить, где его видел. Ты говорил, что видел его.
– Я вспомнил…
– И где?
– У Панфилова в кабинете… одиннадцать лет назад…
Очень хороший год
Эту историю кроме тех, кто в ней участвовал, знал только Каретный.
И Костя. Отмечали пятилетие знакомства и дружбы. Пентхаус Рубенс к тому времени уже выкупил, и вот, на той же огромной кухне, снова вдвоем они пили пиво, болтая о чем-то. Работал телевизор.
– О! Про геев говорят, – Костя повернулся к экрану.
– Уже не ново.
– Давай послушаем? Уж тебе-то должно быть интересно…
Человек с длинными черными волосами рассказывал о том, как он создал семь лет назад первый в стране клуб психологической помощи мальчикам, осознавшим свою нетрадиционную ориентацию.
– Тогда мы существовали нелегально, снимали подвальное помещение, прикрывались вывеской «творческий клуб», изобретали разные формулировки для объявлений в газетах: «Если ты не такой как остальные, если ищешь «своих»… «если тебя никто не понимает, и ты думаешь, что ты такой один», и давали телефон. Мы разработали Эзопов язык для телефонных разговоров, чтобы «расслышать» тех, кто звонил именно по поводу своей ориентации. И чтобы они нас расслышали. За полгода ко мне пришло около сотни школьников! Я помню, как почти каждый из них в первом же открытом разговоре со мной просто плакал. Им было очень тяжело. Всем. У нас работали психологи… Я могу сказать, что здесь, в Канаде, где я живу уже три года…
«Никита Панфилов» – прочитал Костя в титрах.
Рубенс запустил в экран бутылку. Скотина! Полетела вторая. Сволочь! Холостов вскочил и выключил телевизор. Да ты что делаешь?! Что случилось?! Ян сидел с ногами в кресле, обхватив голову руками, раскачивался из стороны в сторону. Ян! Что с тобой? Костя сел перед ним на корточки, сжал его запястья. Что с тобой? Ты его знаешь?
Рубенс его знал.
Ян был одним из тех, кто пришел семь лет назад, после окончания школы, к Панфилову – по одному из тех самых объявлений. И как-то само собой получилось, что уже через пару месяцев переехал к Никите, который с готовностью превратил свою маленькую двухкомнатную квартиру в мастерскую для нового молодого любовника. Рубенс был счастлив. Он уже не терзался своей ориентацией, не чувствовал себя одиноким, непонятым, виноватым. Рисовал много и спокойно.
Никита всегда все понимал, был терпелив к бессонным ночам Рубенса, к раскиданным рисункам, к нервозности Яна, особенно в периоды, когда задуманный образ никак не ложился на бумагу. Умел решить любую проблему. Никогда ни в чем Яна не упрекал, был немногословен и разговаривал в основном тихо. Почти никогда не кричал…
Но иногда Рубенсу казалось, что он совсем не знает этого человека. Особенно, когда в моменты ссор натыкался на абсолютно холодные глаза Панфилова и его слишком спокойный и подчеркнуто тихий голос. Как будто не его глаза, не его голос… Словно откуда-то изнутри рвался другой человек. С трудом удерживаемый… жестокий, страшный. Тогда глаза Никиты говорили: «не доводи меня».
Иногда, после таких ссор Ян подумывал уйти. Но страх остаться опять в одиночестве, среди толпы, считающей тебя изгоем и уродом, удерживал его рядом с Никитой. И когда их бури утихали, снова становилось спокойно, и можно ночью заползти под одеяло и уткнуться в теплую шею. И крепкая рука обнимала спросонья и прижимала к груди. А потом можно было и не спать до утра. И Ян опять оставался.
Роман продолжался чуть больше года.
Ян закончил расписывать стены в последнем отсеке клубного коридора, остался доволен и пошел в кабинет к Никите – поделиться радостью и позвать посмотреть, что получилось. Светы, секретаря, не оказалось на месте, и Ян открыл дверь. Уж ему-то можно!
Боже мой… как банально…
Панфилов спешно оттолкнул от себя мальчика.
– Это наш новичок, Ян, – сказал он, как ни в чем не бывало.
– Ты теперь так в клуб принимаешь? Обряд посвящения? – Ян посмотрел на мальчика мельком и только один раз. – Ему же от силы пятнадцать.
– Шестнадцать.
– Принципиальная разница.
– Поговорим дома, – все так же тихо звучал Панфилов.
– Мы не будем говорить дома.
– Ян, мы поговорим дома. Человеку наши с тобой выяснения не интересны.
– Мне плевать, что ему интересно! Мы не будем говорить дома!
– Тихо… – и вот он опять – этот намеренно едва слышный голос, этот железный тон, – Ян, закрой дверь.
– Он не первый такой, да? Не первый? – заводился Рубенс.
– Не ори. Закрой дверь, я сказал.
Ян вылетел из кабинета. Едва не сбил с ног вернувшуюся Свету, и бегом кинулся домой. Ему показалось, что Света посмотрела на него с сочувствием и сожалением. Она ведь, наверняка, всё знает и знала! Почему она такая ласковая со мной всегда? Из жалости? Из жалости! Рубенс бежал по улицам, едва успевая смахивать слезы. Соберу вещи! Уйду! Перед глазами возник образ Деда Мороза в толстых вязаных перчатках с рыжей заснеженной бородой. Он не общался с Жуковским почти год, даже не звонил, и вот ему опять нужна сказка для несчастного подростка.
Ян влетел в квартиру, почти ничего не разбирая от слез. И тут же кто-то схватил его за свитер и сильно ударил спиной об стену…
Никита уже ждал его дома.
– Ты никуда не уйдешь, – и снова стукнул о стену спиной. – Никуда ты от меня не уйдешь. Ты слышишь?
– Уйду, – с трудом выдохнул Ян. – Уйду.
– Никуда! – к удару о стену добавился кулак в грудь. Сильный удар, и вдох застрял посреди диафрагмы.
Никита был сильнее, выше, крупнее, намного старше. Он прошел армию, занимался спортом, сам тренировал мальчиков в клубе. Основами рукопашного боя владели у него все, и Рубенс тоже, но это были только основы. Применить их в реальном бою, да еще против тренера, – слишком сложно… Особенно сложно, когда слезы заволакивают глаза и чувствуешь себя девчонкой – маленькой, обманутой и беззащитной, сам себе противен, и даже не хочется сопротивляться: и пусть убьет – так мне и надо.
– Ты меня понял? – настаивал Панфилов, снова схватив за грудки и опять спечатав в стену.
– Уйду, – почти беззвучно выдавил Ян, еще не понимая, что это не последний удар, и думая только о том, куда будет складывать вещи. И еще о том, как он бездарно наивен в человеческих отношениях. Вспомнился Каретный. Он бы подсказал… Он людей чует…
Ян выдохнул, а вдохнуть не получилось. Панфилов бил в живот. Еще раз… что ты делаешь? Нет, не может быть. Ты со мной так не можешь. И снова, но уже слева. А потом Ян отлетел в другой конец коридора. Ты. От меня. Никуда. Не уйдешь. Уйду. Ян попробовал встать. Нет, мой сладкий. Голос Панфилова звучал неправдоподобно холодно и жестоко.
Сильные руки подняли его за шиворот и швырнули в комнату. Угол стола впился куда-то между ребер, что-то отчетливо хрустнуло внутри и зажгло. А тело снова поднималось над полом и опять отлетело дальше в комнату. И опять. И еще раз… Что ты делаешь? За что?! Рубенс закрывал руками глаза. Только бы не потерять глаза! Как я буду рисовать? И снова эти руки, и снова. И казалось уже, что они никогда и не были ласковы с ним, не исследовали его тело, а голос этот никогда не был нежным, не шептал на ухо ласковые слова.
Иногда Ян открывал глаза в надежде увидеть лицо человека, который его так нещадно бил. Кто-то другой… не Никита… кто это? Но он видел только линолеум в коридоре, опять палас в комнате, части мебели, пол, стены, опять пол.
Что-то падало и разбивалось, тяжело хлопнул мольберт, загремел об пол телефон, рухнула этажерка, и глухо захлопали книги. За что?! Это не я тебе изменял! Это ты! Слова не шли дальше горла, а Панфилов молчал и только резко выдыхал носом, когда поднимал уже и так безжизненно обмякшее тело для нового броска… Казалось, это издевательство длиться уже слишком долго, чтобы остаться в живых.
Ян лежал лицом вниз. Внутри справа что-то царапало, кололо, толкало и жгло. Ребра? Никита, за что ты меня так? Это не ты… И вдруг он почувствовал, что руки стаскивают с него штаны. Нет. Только не это.
– Никита! За что? – хрипел он сквозь боль. – Что ты делаешь…
И ни слова в ответ.
– Никита, мне больно… дышать… трудно – сипел Рубенс через час, когда пытка закончилась. Он не мог встать, не мог сесть, не мог пошевелиться, даже перевернуться на спину не получилось. Каждый вдох и выдох отдавались невыносимой болью во всем теле. Он чувствовал в горле вкус крови. – Вызови врача… Я же умру… – последнее слово совсем где-то потерялось…
– Алло, «скорая»? Примите вызов. Здесь избили человека. Очень серьезно. Похоже на перелом ребер и внутреннее кровотечение. Возможно, легкое порвано… Я? Друг. Пришел, а он лежит.
– Никита… что с тобой стало…
Панфилов ногой перевернул Яна на спину.
– Хватит ныть. Расплакался тут, как девка. Больно, что ли? – он проговаривал слова опять тихо и подчеркнуто четко, натягивая на Рубенса джинсы и застегивая ремень, – Ты у нас мальчик сильный, выдержишь, – и хлопнул Яна по бедру, – Чего ты смотришь так жалостливо? Тьфу! Противно. Подумаешь, порвал маленько, не рассчитал чуток. Ничего, зашьют, если что, – и он пошел мыть руки, а потом открывать дверь «скорой». Как в тумане зашептали вокруг чьи-то ноги, застучали вопросы. Кто-то наклонился над ним, проверил пульс, приподнял веко, но Ян ничего уже не видел.
Очнулся в палате – большая, белая, со всех сторон что-то постукивает и пикает. Слева и справа еще несколько коек. Реанимация? Рядом сидел человек в милицейской форме.
Сказать – кто? Нет. Скажу, что я их не знал.
Почти неделя в реанимации, трубки из носа, трубки из легких, каждые два часа уколы и унизительный катетер. А рядом – такие же полутрупы, трубки, стоны. Хрустят резиновые подошвы медсестер, звякают в эмалированные лотки использованные иголки. Звуки носятся по огромному кафельному помещению, отлетают от стен и ищут место, где приземлиться, поселяются в твоих ушах. И кажется, что все вокруг мертвы, а врачи и сестры – фантастические машины: не говорят ни слова, и выполняют, по сути, одни и те же движения, – проверяют капельницу, смотрят на аппараты над головой, заглядывают в глаза, что-то пишут в карту и уходят. Все нереально, и кажется, что ты в другом измерении, где нет ни Жуковского, ни Каретного, и вообще ни одного человека из тех, кто мог бы тебя понять. Пустота и одиночество. И думаешь, что никто никогда не придет. Опять. Как когда-то давно, посреди междугородной трассы…
Ян вообще не верил, что его когда-нибудь выпишут, и очень удивился, когда через несколько дней был переведен в общую палату. Там оказались живые люди. Реальность потихоньку возвращалась.
Дня через два под вечер пришла Света. Он ее совсем не ждал…
– Здравствуй, миленький, как ты?
– Плохо… – еле выдавил Ян.
– Я знаю, кто это сделал.
– Не говори никому…
– Янчик, светлая ты душа… Сдай ты его. Ты ведь о нем ничего не знаешь…
– Я прожил с ним год.



