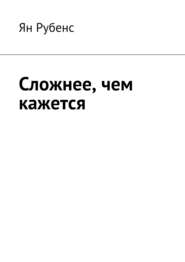скачать книгу бесплатно
Музей чуть было не отказался презентовать картину, Эльзе пришлось задействовать едва ли не все свои связи, подписать дополнительное соглашение к договору, по которому администрация музея имела право прервать мероприятие, отказать в предоставлении зала для пресс-конференции и затребовать в течение часа вывезти картину из здания. Беспрецедентное дополнение, непозволительная уступка! Но переделывать и заново рассылать почти четыреста приглашений, да еще с извинениями по поводу переноса даты и места, – еще более непозволительно. Эльза ненавидела и администрацию, и Рубенса заодно. Ведь он не дал ей ни одного аргумента: работу не видела даже она, хотя уж кому-кому, а ей-то всегда все показывалось в первую очередь.
Итак, о «Решении» никто ничего не знал. Все ждали.
На презентацию съехались представители крупных галерей со всего мира, модельеры, писатели, владельцы издательских домов. Эльза устроила международный прием, собрала настоящую элиту.
Сама отправка полотна – спецрейсом, в сопровождении усиленной охраны – превращена была в событие, широко освещенное в самых разных средствах массовой информации.
– Артур, тебе отзвонились? Рейс прибыл? Всё в порядке там? – Эльза носилась по пентхаусу, сшибая людей и мебель, проверяя ход последних приготовлений и сохранность упаковок. Не дожидаясь ответа, уже бубнила себе под нос: Заявлено сорок два эскиза, я вижу тридцать восемь коробок… Ах! Вон еще две. Это что за царапина? Кто-то пытался вскрыть?
– Охрана отзвонилась. Рейс прибыл. Картину везут в музей. – Артур смотрел поверх нее.
– Там пусть мальчики проследят, чтобы раньше времени не открыли ее! Установку будут снимать и стендапиться на фоне.
– Все будет так, как запланировано… сэр, – и Артур в характерной английской манере едва заметно склонил голову набок. Эльза ничего не заметила.
– Кто это звонит? Опять журналисты? Пакуйте, пакуйте это. Давай трубку. Я слушаю… Зачем вам Рубенс? Эти вопросы ко мне. Пресс-конференцию господин Рубенс проведет в музее сразу после представления картины… Мальчики, это – сюда. Что? …Нет. Нет. Нет. Тоже нет. Что-нибудь еще?.. Вот и прекрасно. До свидания… А с кем я?.. Кто-то новенький. Ладно, все, на выход. Мы не можем опоздать.
Охрана подхватила сумки, грузчики – ящички с эскизами, и стройными рядами, возглавляемые Эльзой, все покинули квартиру.
Работники музея с утра обсуждали предстоящее событие. Когда установили полотно, когда отрапортовали на свои камеры журналисты, и воцарилась ожидающая тишина, было трудно переоценить масштаб грядущего события. Посреди главного зала возвышалась шестиметровая громада под темно-красным бархатным покрывалом. По обеим сторонам застыли как неживые, в характерной позе со скрещенными впереди руками высокие, скульптурного телосложения, но интеллигентного вида серьезные ребята в одинаковых черных костюмах. На позолоченных столбиках вокруг этой почти скульптурной группы покоился толстый витой шнур в цвет покрывала, с длинными кистями, будто царскую карету ограждал… В общем, Эльза сделала всё, чтобы превратить презентацию в блестящий спектакль.
Поздний вечер.
Такого скопления людей музей не видел давно. Разноязыкий, многоголосый шепот заполнял главный зал и уплывал под его двадцатимеровые своды. Пора. Ян поднялся с кресла и протер взмокшие ладони. Они с Эльзой, сопровождаемые Артуром и еще двумя телохранителями, двинулись вперед по длинному музейному коридору второго этажа. Мимо стен, увешанных старинным оружием, мимо портретов полководцев и изображений батальных сцен.
– Символично, – шепнул Ян и постарался замедлить ход.
– Не бери в голову, – отозвалась Эльза, – все пройдет хорошо. – Она уверенно стучала шпильками по мрамору. Давайте все-таки идти не вразброд и быстро. Мы должны появиться четко в восемнадцать пятьдесят пять, чтобы спуститься, сказать Слово и открыть картину ровно в девятнадцать часов, когда начнут бить часы под потолком.
Все прибавили шаг.
– Сколько там камер? – Ян старался говорить спокойно.
– По моим спискам – двадцать четыре.
– Ужасно…
– Перестань бояться. Ты всегда спокойно к ним относился.
– Но двадцать четыре! Так много еще не было…
– Было. Ты просто их никогда не считал.
Им предстояло пройти еще метров шестьдесят и по широкой мраморной лестнице спуститься в главный зал у всех на виду.
– Ты их слышала? – вдруг спросил Ян.
– Кого? Камеры?
– Часы!
– Да. Я говорила тебе. Звучат – как церковный колокол. Особенно под этими сводами. Просто роскошно. Пробьют символично семь раз.
– Я жалею, что согласился на эти часы.
– Не поняла…
– Мой Иисус, он не совсем такой… каким его привыкли видеть…
– Ты не мог высказать свои пожелания на пару месяцев раньше?!
Они вышли на лестницу. В зале воцарилась тишина. Ян спускался чуть впереди, слева Эльза, справа – Артур, вторым рядом – остальная охрана… Красиво идем… черт бы побрал всю эту театральность! Зачем я согласился? Боже мой, ненормально много камер! Еще пара вспышек, и я ослепну. Все, я ослеп. Трижды. Дожить бы до ночи…
Наконец подошли к картине, и Ян понял, что слово его отменяется – он давно забыл, что такое «потерять дар речи», и вот… Им не понравится, они не поймут, не надо было устраивать этот спектакль, я же просто сейчас опозорюсь… он стоял лицом к собравшимся и молча смотрел в пол. Эльза растянула губы в мраморной улыбке, стараясь смотреть ни на кого и на всех разом. И вдруг Ян вскинул голову и заговорил. Но совсем не то, что планировалось две ночи назад.
– Вы знаете… я этот замысел вынашивал почти пятнадцать лет. А может, и дольше. Может, с того самого момента, когда мне прочли Библию для детей. Окончательно он созрел, когда мне было двадцать три. И вот, еще через четыре года мне удалось его воплотить. Я знаю, что пройдет время и я захочу его переписать. Полностью. Но сейчас, когда смотрел на него вчера вечером, я чувствовал, что сказал в этом образе всё, что хотел. Всё, что хотел сказать сейчас… Я всегда боюсь представлять свои новые картины публике… тем более, такой, какая собралась сегодня… видимо, этот страх быть непонятым – неизлечим. Но я решаюсь каждый раз, и в этот раз решился тоже, хотя был соблазн отдать все на откуп моему директору… Вы знаете Эльзу… – Ян сделал неловкий жест в ее сторону и даже попытался обернуться, по вовремя понял, что одеревенел, – я очень боюсь, что вы не поймете моего Христа… не знаю, что еще сказать и прошу снять покрывало! – и Рубенс на негнущихся ногах попятился за картину.
Четверо «хранителей» потянули бархат. Раздался первый из семи удар часов. …Воистину колокол, – и Рубенс неожиданно для себя перекрестился. Еще секунда – и он услышал, как между ударами, с тяжелым шорохом, к ногам его «Решения» упало тридцать три квадратных метра королевской ткани. Ткани царей… Вот сейчас я и сойду с ума… почему все молчат? Зачем тушат свет? Почему не бьют часы? …А в следующее мгновение его кто-то подхватил, чьи-то руки крепко держали его, чтобы он не упал – в обморок. При таком скоплении людей?! Я не имею права… это будет позор…
– Прошу вас, осознавайте увиденное… – Эльза пыталась говорить ровно и не смотреть на картину. – Журналисты смогут задать автору вопросы на пресс-конференции через сорок минут. Приглашенных на фуршет, машины будут ждать в течение часа у входа в музей. Прошу открыть соседний зал, где вы сможете увидеть эскизы, – она выключила микрофон и шагнула вслед за Рубенсом, его едва заметно поддерживал Артур. Все трое ушли в дальний зал, под мраморную лестницу, по которой спускались десять минут назад.
Когда уже почти входили в высокие двустворчатые двери, Ян понял, что в ушах у него – не шум. Это были овации.
Он упал в кресло, метался в нем, как в клетке, не зная, куда сбросить эту энергию. Сразу вспомнилась привычка Холостова бегать из угла в угол, разгоняя переживания. Холостов… Его здесь нет! Неужели не пришел… Сорок минут… сорок минут, чтобы успокоиться. У меня всего сорок минут!
Резкий запах нашатыря привел его в чувство. Рядом с ним – Эльза, Артур, а вот подошел и Костя.
– Ну и что? Вы видели? Видели?
Друзья стояли перед ним полукругом, и никто из троих не знал что ответить.
– Что там? На этой картине? – Эльза спросила угрожающе.
– Что не так? – прохрипел Рубенс.
– Что мы не увидели? – переиначила свой вопрос Эльза.
– Я прошу вас, не мучьте меня сейчас. Дайте очнуться, – голос возвращался к нему. – Мне надо знать, как зал? Кто-нибудь расскажет мне? Вы должны были смотреть за лицами!
– По-моему, никто ничего не понял… Хотя, я смотрел издали, – высказался, наконец, Костя. – Я опоздал…
Так хорошо, что ты, все же пришел! Так хорошо! Нужно сказать тебе это. Нужно обязательно! – тараторил Ян про себя.
– Эльза, ты почему молчишь? – он смотрел дико.
– А что я должна сказать? Что все стояли, разинув рты? Что люди не знали, как реагировать? Что ты там изобразил?! Нас могут выкинуть отсюда в любой момент!
– Господи, боже мой… – Ян схватился за голову.
– Я не добьюсь от него ничего! – всплеснула Эльза руками, – Я хочу увидеть картину. Мне нужно ее увидеть, – она сжимала и разжимала кулачки. Отсюда по коридорам можно пройти вокруг главного зала и зайти в него c другой стороны, позади публики. – Ты пойдешь? – обратилась она к Холостову. – Нет? Как хочешь. Я пойду. Мне надо знать, как подавать ситуацию на пресс-конференции. Там уйма всяких журналистов, я не имею права выглядеть глупо. Займись Рубенсом, Костя. Через тридцать три минуты он должен быть вменяем.
Костя ответил кривой полуулыбкой, и пожал плечами, мол, как всегда…
– Расскажешь мне! – крикнул Ян вслед Эльзе.
Публика все еще не покидала зал. Отовсюду слышался шепот: «Скандал… скандал…», все переговаривались быстро и возбужденно. „Церковь будет недовольна“, « богохульство», «его обвинят в ереси». Эльза выбрала место, где меньше всего знакомых затылков, и увидела картину. Рубенс… что ты сделал…
Но восхищение высоким искусством охватило ее ненадолго. Надо сегодня же найти здесь Нью-Йорк и Париж и устроить между ними торги – у кого выставить «Решение» в первую очередь. Да, здесь еще Германия. По спискам, они зашли и утром говорили, что собираются на фуршет. Наши музеи… – в конец очереди! Обойдутся! Будет им наказанием за все его мытарства… Нельзя быть такой злой, дорогая Эльза, – говорила она сама себе. И тут же парировала: не будь я такой, Рубенс не стал бы известен всему миру. Я всё делаю правильно.
Фигура Христа занимала почти все полотно. Позади – только фиолетово-серое небо в тучах, внизу, за Христом – люди – невнятно-кисельной массой, искаженные, будто отражение в подернутой мелкой рябью луже. Он – в черном одеянии монаха. Но это он. Рубенс изобразил лицо, как всегда, в традициях эпохи Возрождения – утонченным, почти женским. Ветром растрепал пшеничные волосы, но глаза сделал темными. Вглядевшись в эти глаза, в изгиб бровей, складку на лбу, Эльза различила черты человека, уже дважды спасавшего автору жизнь. О да… Настоящая благодарность. Артур еще не видел… И, почему-то вздохнув, она стала протискиваться к двери, чтобы пройти обратно к Яну, ее кто-то хватал за руки, узнав, но она тактично всем улыбалась и ссылалась на подготовку к пресс-конференции.
– А если бы она называлась как-нибудь вроде «Отчуждения монаха»?
– Наверное, мы все равно узнали бы Христа.
– В этом и есть суть гениального произведения – мы можем почувствовать изображение.
– Он предупреждал в «Arti Figurative», что его могут не понять.
– Очень энергетично.
– Смело. До безрассудства.
– Вы правы, – церковь будет возмущена.
– Не думаю, что католики вступят с ним в спор… хотя совсем недавно им удалось запретить фильм.
– Он отказался в названии от имени, так что, возможно, обойдется без религиозных баталий. Вы же слышали, что он собирался назвать полотно «Решение Христа»?
Нечто подобное звучало на разных языках. Журналисты начали потихоньку растекаться по залу, в поисках комментариев для первых публикаций.
«Удивительное произведение – по силе передаваемой энергии, по световому решению. Здесь только оттенков серого более двадцати! Поражает, насколько разнообразно и прочувствованно господин Рубенс сумел передать богатство холодной гаммы одного-единственного цвета. В теплых тонах написано только лицо и руки Христа, и именно они являются триединым центром картины – и в эмоциональном, и в цветовом плане. Несомненно, это прекрасный образец раскрытия религиозной темы в нерелигиозном искусстве!» (Главный реставратор музея […]).
«Этот Иисус подавляет вас. Он над вами, и он – против вас. По-видимому, Ян Рубенс пытался передать те изменения, которые человечество вызвало в Христе, те внутренние преобразования духа, на которые вынудило его. Если мы говорим о психологизме картины, то замысел автора ясен, а значит, полотно удалось. Вряд ли можно воспринимать картину как несущую религиозный смысл. Здесь речь ведется о некой нестабильности, о масштабах этой нестабильности, о бренности всего сущего и о возможных изменениях непреходящего. Иисус Рубенса как будто предупреждает, что и терпение самого терпеливого имеет пределы. Но это внутренний образ каждого из нас. Не религиозный образ». (Директор галереи «L’arte vera», Рим).
«Первым делом вы смотрите на лицо и руки… И этот крест, что Иисус буквально швыряет в толпу, колыхающуюся где-то внизу, позади него, производит, конечно, несколько угнетающее впечатление. И потрепанная Библия с измятыми страницами в другой руке… Здесь звучало много мнений о том, что картина вызовет негативную реакцию церкви в совершенно разных странах, и с этим трудно не согласиться, такое может произойти. Да, получается, что Иисус Рубенса сам отвергает все религиозные ценности, все вековые традиции. Он делает страшную вещь – отрекается от человечества. Бросает крест в людей – не оборачиваясь, не глядя, то есть его совершенно не волнует больше ни их настоящее, ни их будущее… И – опять же – он мнет Библию. Его правая рука вот-вот швырнет измятую книгу в другую сторону. Не будем забывать, как много веков противники официальной церкви говорили о том, что вера не может держаться на Библии, поскольку Библию писали люди… Здесь есть этот мотив. Христос уходит, оставляет нас. Такой мотив может быть истолкован как богохульство, но эта идея сейчас подспудно ощущается во всем мире – идея чрезмерного испытания терпения Бога. Люди слишком рассчитывают на его всепрощение… (главный редактор журнала «Cuvre D’art`», Париж)».
«Это, безусловно, религиозное полотно. Да, оно идет вразрез со всеми церковными ценностями – и в плане философии, и в плане изображения. Но в данном случае художник сразу прибег, если так можно выразиться – к услугам „исторического“ адвоката. Видите, в левом углу маленькая фигурка монаха на коленях? В левом, не в правом. В правом – вся неразборчивая человеческая масса, а эта фигурка с выбритым затылком выписана очень четко. Знаете, кто это? Это Фома Аквинский! Я не знаю, сделал ли это Рубенс осознанно или интуитивно, но его картина может сыграть в нынешнем обществе ту же роль, что сыграл трактат Аквината восемьсот лет назад. Не удивлюсь. Если у Рубенса будут проблемы с церковью, я буду на его стороне… (директор издательства „The Art“, Лондон)».
Так должно быть всегда
За полгода Дениса вполне освоился с тригонометрией, его успехи радовали учителей. Жуковских же радовало, что Ян наконец-то с кем-то подружился. Надежда Геннадьевна, правда, несколько подозрительно смотрела на их отношения, ее смущало, что мальчики слишком часто вместе, нередко ночуют друг у друга… Но Жуковский запретил ей поднимать эту тему.
В школе они почти не общались, чтобы одноклассники не заметили их внезапного сближения. И никто ничего не замечал, все шло ровно, и Яну казалось, что так должно быть всегда. Он уже не переживал, ему больше не стыдно: рядом – такой же, как он. Он понимал, шел навстречу, думал так же, чувствовал то же, так же желал. Никто из них не ожидал беды. Но гром грянул…
Однажды утром Ян пришел домой бледный. Он смотрел в пол, на вопросы отвечал невпопад, быстро прошел в свою комнату и закрылся. Через какое-то время раздался телефонный звонок. Жуковский взял трубку:
– Алло?.. Да… Чей отец? А, Дениса, добрый день… не понял… кто – кому? Делал что?! – и он замолчал надолго, а потом вдруг почти закричал: – Да я хоть сейчас к тебе, гниде, приду. Лично! А если ты в школу позвонишь, я тебя тоже лично на куски разорву, понял ли ты меня?! Только попробуй! – таких слов от Ивана Геннадьевич не слышал никто и никогда.
Ян метнулся из своей комнаты к входной двери, Жуковский швырнул трубку и бросился за ним. Стой! Он схватил его почти в охапку. Ян отбивался, пытался вырваться и издавал при этом такие сдавленные звуки, как будто его душили. Надежда Геннадьевна выскочила в коридор. Что происходит?! Кто звонил?! Ваня!.. Жуковский скрутил Яну руки, прижал к себе, пытался целовать в затылок. Сын, сын, успокойся! Ян поджимал ноги, пытаясь выпасть из рук Жуковского, прятал лицо, наклонял голову, как можно ниже, хрипел и почти рычал, вырываясь. Надежда Геннадьевна в ужасе наблюдала за этой сценой. Жуковский молча удерживал Яна, ожидая, когда тот устанет, а потом – совершенно точно – взорвется истерикой. «Господи! Не дай бог, этот идиот позвонит в школу! Не дай бог…» – почти молился про себя Иван Геннадьевич, не чувствуя, как Ян пинает его и даже кусает. Но вот он неожиданно ослаб, и, запрокинув голову, ударил Жуковского в грудь и закричал. Заорал. Неестественный, нечеловеческий вопль, отчаянно безысходный, разворотил связки и дальше Ян мог только хрипеть. Надежда Геннадьевна вскрикнула и расплакалась, как испуганный ребенок. Жуковский полушепотом твердил одно слово: успокойся, успокойся… Отпустите меня!.. Никто тебя никуда не отпустит… Отпустите!.. Успокойся… Пустите!.. Сын, Сын! Я с тобой, слышишь! Я тебя никому не отдам. Никому. Никогда… Я с тобой.
Никто не заметил Сашу, разбуженного криками. Он стоял взъерошенный, в одних спортивных трусах, в дверях большой комнаты и, широко раскрыв глаза, наблюдал за происходящим. Мать зачем-то кусает носовой платок, отец скрутил Яна, а тот извивается и бьет его ногами. И этот вопль… и мать начинает плакать навзрыд, а Ян падает и бьется об пол головой, и отец подхватывает его и говорит что-то непонятное. Что происходит?
Жуковский опустился вслед за Яном на пол. Надя! Валерьянки, пустырнику! Чего-нибудь! Надежда Геннадьевна метнулась на кухню. Снова зазвонил телефон. Не бери трубку, Надя!
– Возьми! – из последних сил заорал Ян и зарыдал уже в голос. – Возьми… Это может быть Денис, – он почти прошептал, закрыл лицо руками и совсем лег на пол.
– Алло! Кто это? Алло?.. Положили трубку…
– Нет! Нет! Перезвони!.. Перезвони мне!.. – Ян сжимал кулаки и бил пол, Жуковский снова скрутил ему руки.
– Ваня, сделай же с ним что-нибудь!..
– Да чего вы все орете?! – не сдержался Саша.
– Тихо! Ты вообще иди отсюда! Надя! Валерьянка где?! Неси всё! Давай сюда.
А Ян задыхался от рыданий, прижимаемый Жуковским к полу. Он все ещё делал попытки хотя бы доползти до двери.
– Открой бутылек… И воды стакан. Быстро… – Жуковский зажал голову Яна локтем и влил ему добрую половину содержимого бутылочки. Запах пустырника наполнил коридор, – только бы не захлебнулся… – потом почти стакан воды. Половину пролил Яну на свитер…
– Сашенька, иди к себе, пожалуйста!
Саша не выдержал этот умоляющий, отчаянный взгляд матери, ушел к себе, оделся и принялся ходить по комнате… В коридоре все стихло.
Потом отец позвал посидеть с Яном в его комнате.
– Никуда не отпускай. – Иван Геннадьевич вытер пот со лба, – Будь готов, он может ударить. Он в панике.
– Папа, что случилось?
– Тебе знать необязательно. Просто поддержи его сейчас. И скажи – обязательно скажи, что ты ничего не понимаешь. Тем более что так оно и есть, – и Жуковский ушел на кухню к жене, предварительно заперев сыновей в комнате Яна. Наде он должен теперь все объяснить.
Они ночевали у Дениса. Отец – в ночную, потом кого-то подменит на второй работе, придет не раньше двенадцати. Мать – в командировке. Такая удача выпадает редко. Утро. Суббота. Весеннее солнце. Счастье. В комнате. В ванной. Опять – в комнате. Ян стоял перед Денисом, когда дверь неожиданно распахнулась… Отец! Крики, угрозы, ругань, удары. Ян защищался, но он был слишком изящен для драки с рабочим.
Как они умудрились одеться, как выскочили, как разбежались в разные стороны, чтобы сложнее было поймать… непонятно. Ян ходил потом кругами по кварталу в поисках Дениса, в страхе наткнуться на его отца. Дениса он так и не нашел и не помнил, как добрался до дома, закрылся в комнате. А потом этот злополучный звонок… Он прижался ухом к двери. Сначала ничего не было слышно, но вдруг Жуковский заговорил очень громко и страшно. И Ян понял, кто позвонил, что сказал. С трудом он открыл замок – ключ все время выпадал! А дальше – уже опять плохо помнил…
Сейчас рядом сидел Саша, гладил его по плечу, по голове и говорил какие-то очень нежные слова:
– Братишка, пожалуйста, угомонись. Не надо так. Ян, я не знаю, что случилось, но мне так страшно за тебя сейчас…
Ах, как он прав! А в голове одна фраза Жуковского: «А если ты в школу позвонишь…». Неужели отец Дениса позвонит в школу?! Неужели всё расскажет?! Тогда – конец… Ян до сих пор вдыхал как будто через раз, шея непроизвольно дергалась при каждом вдохе… Нет, он не может позвонить в школу. Неужели от так поступит?! Ведь это значит – предать сына! Разве может отец выставить своего сына на публичное унижение! Это же позор. Нет, нет… Боже мой, как стыдно! Что он рассказал Жуковскому? Неужели – то, что видел?! Где сейчас Денис? Прочему я его бросил? А почему он бросил меня? И Ян опять заплакал.
И вдруг – Саша заплакал тоже. Ян, пожалуйста! Ну что с тобой?! Чем тебе помочь?
Саша второй раз почувствовал, как бывает заразительна боль…
О чем она?