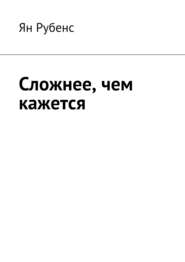скачать книгу бесплатно
– В этой стране еще мало кто знает, что такое бизнес. Но я бываю далеко за пределами нашей прекрасной родины, знаю французский и немецкий, вожу знакомство с «сильными мира сего» в странах загнивающего капитализма. Я готова проложить путь для вывоза за рубеж еще одного процента интеллектуального капитала. – она будто царевна-лебедь провела рукой, указав на Рубенса.
– Простите, Эльза, сколько вам лет?
– Двадцать один. Вы мои года не считайте, считайте мои возможности и свои перспективы. Если вас интересует возраст, то брату моему тридцать семь, отцу – шестьдесят два, и оба готовы поддержать мои идеи. Собственно, без их поддержки меня бы здесь и не было. Вы хотите узнать, в чем заключаются мои предложения?
– Пожалуй, да.
– Но мне необходимо сразу уточнить пару моментов. Первое. Я очень надеюсь, что вы – не типичные носители нашей самой светлой в мире идеологии, так что если вам за картину предложат деньги, скажем, из Берлина или Парижа, – вы их возьмете. Таково мое предположение, хотелось бы его подтвердить. Так? …Вы понимаете, о чем я говорю?
– …Вполне…
– Тогда ответьте на мой вопрос. Я понимаю, что работы, по крайней мере, те, что мне удалось видеть, можно считать национальным достоянием. Хотя здесь это понимают пока, пожалуй, всего несколько человек, я уверена, что за рубежом мы найдем намного больше ценителей. Я намерена продавать картины заграницу, и мне бы очень не хотелось получить от вас отказ от по идеологическим причинам. Я не получу отказа по идеологическим причинам?
– …Н-нет.
– Отлично. Итак, представьте себе, что через месяц-другой вы получаете официальное предложение о покупке картины Рубенса, например, Берлинским музеем современного искусства, и цена вас устраивает, и картину эту вы согласны продать. Вы продадите ее Берлинскому музею? За немецкие марки, разумеется.
– А это возможно? – глаза у Яна блестели.
Жуковский сидел онемевший. Надежда Геннадьевна – напряженная.
– Для меня возможно. Я объясню, но сейчас мне нужен ответ. Вы продадите?
– Я продам, – решился Жуковский. – И дело не в деньгах и не в Германии. Просто я понимаю, что только обходными путями его… – он показал на Рубенса, – можно вывезти отсюда, чтобы ввезти сюда же.
– Ой, ведь так сложно получить разрешение на продажу «туда», – попыталась возразить Надежда Геннадьевна.
– Об этом вам думать не надо, – уверенно отрезала Эльза. – Во-первых, его никто пока не знает, и нам это выгодно: таможня не вздрогнет, Минкультуры не потребует согласований. Во-вторых, даже если что-то будет мешать, все уладит мой старший брат. Вопрос снят?
– Вроде да… Но зачем это все вам? – Жуковский еще не понял, насторожиться или обрадоваться.
– А вот и второй момент. Я неслучайно начала свою речь со слова «бизнес». Я не мать Тереза. Я готова порвать всех и вся для успеха предприятия, но и сама хочу получать прибыль. Если мы договоримся об условиях, то завтра я принесу договор о нашем сотрудничестве. Приду с нотариусами и юристами, и мы сделаем так, что бумаги будут иметь силу в любой стране мира. Итак, условия?.. – Все кивнули. – По документам я буду являться официальным представителем, агентом художника Яна Рубенса, получу полномочия продавать утвержденные им и его опекуном (до достижения автором полного совершеннолетия) картины авторства Яна Рубенса юридическим и/или физическим лицам. По каждому лоту условия продажи согласуются отдельно. Наши договоренности документируются и юридически заверяются. От каждой легитимной сделки я получаю процент – не менее пяти, но не более сорока, – в зависимости от стоимости проданной работы, что прописывается в условиях по лоту. К примеру, если картина продается за сумму от десяти до пятнадцати тысяч долларов, то процент один, если от пятнадцати тысяч и одного доллара до двадцати тысяч – то другой. Чем больше сумма продажи, тем меньше мой процент, – и тут она поняла, что пора прерваться. – Вы меня еще понимаете?
– Простите, Эльза, сколько вам лет? – Жуковский готов был ахнуть. – Вы говорили?
– Да, говорила. Двадцать один. Поймите, я росла в особой семье, в особых условиях. Мой отец хочет, чтобы будущее мое было действительно светлым, поэтому регулярно отправляет меня за границу, знакомит с зарубежной культурной и деловой элитой. У нас же деловой элиты нет вообще, культурная, по большей части, сводится к идеологическим лидерам. Мой отец считает, что здесь учиться нечему, и учит меня «там». Да, вам, наверное, сложно понять мой язык… Я могу просто оставить бумаги, вы их прочтете, там есть комментарии… встретимся завтра или через несколько дней. Как захотите… – Эльза вздохнула.
Ей вдруг показалось, что все бесполезно, эти люди ни на что не решатся, а она – просто сумасшедшая идеалистка с утопическими фантазиями. Но тут Эльза встретилась взглядом с Рубенсом. Как он красив…
– Я хочу! – Он не сводил с нее восторженных глаз. – Продолжайте, пожалуйста. Мне, правда, мало что понятно, я вообще еще маленький, но я хочу. Хочу, чтобы меня увидели, – и тут голос его дрогнул. А ведь и правда – хочу. И правда – важно!.. Так важно, что он до сих пор не признавался себе в этом.
В химии есть хороший термин – катализатор. И в психологии – актуализатор. Нам всегда нужен кто-то, кто запустит в нас процессы самосознания. Будь то чириканье хихикающих девчонок в художественном классе или вот эта деловая красавица из далекого мира.
…Странно, но самую важную правду мне раскрывают существа женского пола. Интересно, так будет всегда?
Жуковские с трудом преодолевали чувство неловкости: эта девочка, а для них она именно девочка, вдруг открыла им такую серьезную взрослую бездну.
Рубенс и не подозревал, что его судьбой уже заняты десятки человек! Конечно, в мировых масштабах ничтожно мало, но всех этих людей подняла своей одержимостью одна-единственная девушка. Ей было нужно. И это «нужно» останется с ней на всю жизнь. И с ним оно останется тоже.
Жуковский Яну перечить не стал, соглашение с Эльзой заключил, и это был первый договор такого рода в стране. Второй подобный появится только через несколько лет, и то – в столице.
Через полтора месяца была продана первая картина, покупателем действительно стал один из ведущих музеев Германии. Еще через неделю во влиятельном немецком журнале появилась статья о новом уникальном приобретении музея, с отзывами немецких критиков и небольшим интервью директора о том, как принималось решение о покупке. В материал включили фотографию автора и репродукцию самой картины. Эльза принесла Рубенсу перевод статьи вместе с оригинальным экземпляром журнала.
«…шаг, безусловно, рискованный – приобрести работу совершенно неизвестного даже в своей стране, шестнадцатилетнего мальчика. Но картина – необыкновенна, художник исключителен. Наши специалисты не нашли среди современных авторов аналог технике юного творца. Кроме того, манера мастеров эпохи Возрождения – уникальна для нашего времени, видно, что за ней стоит не один год изучения разнообразного историко-художественного материала. В итоге картина чрезвычайно нежна и искренна. С некоторых пор современному творчеству более свойственны угловатость и резкость, в работе Я. Рубенса – неожиданно непосредственное, тонкое выражение чувств. Этот визуальный язык ценен тем, что понятен каждому. И, конечно, не передать на словах уникальную энергетику, идущую с холста. Не поддавайтесь скромному очарованию репродукции, приходите взглянуть на оригинал. Полагаю, работа могла бы занять достойное место в любой знаменитой галерее мира, но она – у нас, и мы гордимся. Надеюсь, юный Рубенс создаст еще не один шедевр, и лет через сто о нас будут говорить как о первооткрывателях бесспорного гения…»
– Эльза, как ты думаешь… Я еще буду лет через сто?
– Обязательно будешь, Ян, – улыбнулась Эльза. Он ее первая победа, ее будущее. Благодаря ему, и она еще будет через сто лет.
В одном из берлинских банков на имя Рубенса открыли счет, куда поступило двенадцать с половиной тысяч немецких марок – чистая часть от сделки. Проценты ушли Эльзе и кому-то еще, по документам Ян никого не помнил, в юридических лицах не разбирался и полностью доверился своему агенту. Агент закусила удила и уже готовила вторую продажу.
Ян еще не осознал первую… Там живет Ван Гог! Теперь там живет и Ян Рубенс… Он начал учить немецкий.
Мама… я думаю, тебе там будет хорошо. Может, потом к тебе приедет и папа. А нас с тобой я не отдам. Правда, мама… мне плохо без тебя… так тебя не хватает. Что бы ты сказала? Согласилась бы. А папа гордился бы… точно… Твои любимые художники теперь с тобой рядом. Ты – рядом с ними!.. Я давно не плачу, мама, я держусь. Но ты мне так давно не снилась… – и Ян проплакал над репродукцией весь вечер.
В ту ночь ему приснилась мама.
Через год уже два европейских музея выставляли его работы, несколько холстов разошлось по частным – опять же европейским, галереям, еще три картины пополнили частные зарубежные коллекции. Как все получалось, Ян не знал, всем занималась Эльза. В ее кабинете, располагавшемся уже в здании городской администрации, шкаф ломился от официальной переписки, договоров, счетов и отчетов, от зарубежных журналов с публикациями о Рубенсе и его творчестве.
– Тебе пора брать секретаршу, – пошутил Ян.
– Частные предприятия разрешили, нужно оформить. – Эльза разбирала очередную стопку бумаг. – И нам требуется более серьезное прикрытие: тобой наконец-то заинтересовались «культурные» чиновники, могут начать давить. Дай бог, чтоб нам хватило ресурса.
– Не совсем понимаю, о чем ты, но верю. Ладно, я пошел. Скоро конец четверти. Учебники, что ли, почитать…
– Правильно, а то все какой-то ерундой занимаешься! Картинки рисуешь!
– Правда что! – они улыбнулись друг другу, обменялись поцелуями в щечки, и Ян ушел домой.
Иногда Эльзе казалось, что он не такой уж и маленький: слишком уверенно двигается, слишком хорошо следит за собой, что мальчикам в этом возрасте не свойственно… Всегда ухоженный, опрятный и явно знает цену не только своим холстам, иначе, не подчеркивал бы так откровенно свою отличную фигуру. А ничего фигурка! Для его-то возраста…
И она опять принималась себя ругать.
Зачем ему знать
Тем летом Жуковские решили отправить Яна в пионерлагерь – нужно успеть: пионеров уже не было, лагеря еще оставались. Саша с июня работал вожатым и пристроил Яна в старший отряд, хотя ему почти исполнилось пятнадцать.
Родители знали, что в этот же лагерь едет вожатой некая Оля. Зачем Саше знать, что мама дружит с ее родителями? Он не хочет афишировать отношения, – имеет право.
– Вроде, большой уже, имеет право на личную жизнь… – Надежда Геннадьевна усердно натирала и так уже скрипевшие тарелки. – Но хорошо так рассуждать, когда все знаешь. А если б не знали? А если б не понравилась нам эта Оля? Искренны ли мы в своем великодушии? Или просто удобно устроились? Действительно ли признаем его право на свободу?
– Ты не слишком увлекаешься рефлексией, Наденька? – опешил Иван Геннадьевич. – В первое же утро после их отъезда!
– Ну, может быть… – Надежда оставила тарелку в покое. – А как ты думаешь, Ваня… у Яна кто-нибудь есть?
– Вряд ли. По-моему, он вообще пока асексуален.
– Тебе не кажется это немного странным?
– Нет, не кажется. Всему свое время. Я тоже заинтересовался девушками только лет в шестнадцать. Ты будешь прибираться в его комнате?
– Да, пора сделать там генеральную уборку. Особенно вдоль стен. Перенеси его работы в коридор.
– Хорошо, – и Жуковский пошел в комнату Яна.
Десять квадратных метров, три на три с половиной. Напротив двери – окно, под окном, на полу, матрац (от кровати Ян отказался). Днем матрац ставился вдоль батареи под подоконник, чтобы освободить место на полу. Обдумывая работы, Ян расхаживал по комнате. Подскакивал к мольберту, когда сформируется идея. А потом снова ходил от стены к стене в поисках следующей.
Слева от двери – большой шкаф для одежды, рядом – письменный стол. Жена Жуковского переживала, что свет из окна падает справа, уроки делать неудобно… Но Ян просил ее не волноваться. Посреди комнаты – два мольберта. К стене напротив письменного стола, на уровне груди приделано нечто вроде столика в поезде. На этой откидной парте Ян делал карандашные наброски, – он всегда рисовал стоя. Рядом – зеркало в полстены. Напротив – еще два. Он переставлял их в поиске нужного освещения, особенно если рисовал с натуры. Вся левая стена – в полках, все полки – в книгах.
Надежда Геннадьевна перемыла, перетерла все, что можно было трогать. И вспомнив, что за полтора года никто ни разу не мыл под шкафом, решилась на этот подвиг. Ни то ни се – четыре сантиметра над полом. Как туда просунуть тряпку? Ой, пусть этим займется Ваня.
Жуковский занялся. Шшширх… Бумага? Жуковский прислушался. Еще раз? Шшширх. Она – за стенкой шкафа. Сразу подумалось: хорошо спрятано – достать можно только снизу. Еще вправо, еще, еще. Вот оно. Большая пухлая папка, А3. Зачем я так? Это нечестно… Но он достал рисунки. Сверху лежали как раз те, что Жуковский когда-то приносил домой. А дальше… О том, что их видел, он признается Яну только через шестнадцать лет! И ни жена, ни сын, и вообще больше никто никогда не узнает о содержимом этой папки. Иван Геннадьевич и сам предпочел бы не знать.
Это не было эротикой, тем более – не было порнографией. Это была любовь. Красивые тела, руки, лица, эмоции. На рисунках отдыхали, переодевались, принимали душ не ровесники Яна, они старше, скорее всего – вообще незнакомые люди, где-то подсмотренные повороты, жесты, позы. Фантазии?.. Тщательно прорисованы кисти рук, шеи, спины, – наверное, самое важное для него, потому что иные детали были всего лишь набросаны парой-тройкой линий. Часто повторяющийся мотив: фигура стягивает через голову свитер. Вот она же – чуть боком, на нескольких эскизах – со спины. Какая проработка… Жуковский вытер лоб. Дальше смотреть нельзя, дальше – двое… Зачем ему было знать! Сынок, прости. Я никогда тебя не выдам…
Он домыл под шкафом, убрал папку обратно, вышел на кухню, тяжело опустился на стул. Закурил. Хотелось то ли скулить, то ли пустить слезу. Почему именно это? Неужели он не мог действительно оказаться – асексуальным или медленно созревать? Есть же такие люди! Видимо, не мог… Он уже был – другим. Столько сексуальности в четырнадцать лет, столько чувственности вложено в эти рисунки, какие фантазии! А если не фантазии? И у него есть кто-то старше него? Как к этому относиться? А как отнесутся другие? Клеймо на всю жизнь… Через сколько унижений придется ему пройти? Как защитить? И тут Жуковского догнала и вовсе уж безысходная мысль: Уголовный кодекс… До пяти лет лишения свободы…
– Наденька, налей-ка мне чаю.
– Все в порядке, Вань? Какой-то ты бледный.
– Голова что-то закружилась, – при этом, Жуковский не соврал, – давление, видать. Старею.
– Прекрати немедленно! Чаю тебе сделаю, полегчает… А ты чего там долго так?
– Да я думал… – не соврал он опять.
– О чем, Ванечка?
– О том, как проверить, ты искренен с сыном или просто удобно устроился… Рефлексия твоя утренняя кстати пришлась, Наденька. Вот и задумался.
Через несколько дней, когда Надежда Геннадьевна опять завела разговор о девушке Саши и об отсутствии девушки у Яна, Жуковский сорвался – первый и последний раз по этому поводу:
– А может, он вообще гомосексуалист? – главное, произнести как можно проще, чтобы не звучало как намек, чтобы похоже на шутку, пусть и неудачную.
Но, после некоторой паузы, Надежда Геннадьевна ответила очень неожиданно для Жуковского:
– Я об этом думала. Но мне кажется, он еще слишком юн.
Отцы виртуозно не замечают в своих сыновьях того, во что отказываются верить, а матери слишком часто ошибаются насчет их взросления. Даже если сыновья – приемные.
Послушная рука
Последний класс. Еще год – и ты свободный человек! А говорят, младшие будут учиться уже одиннадцать классов, нам повезло промучиться всего десять… Жаль, что я потерял год… Дурацкая система оформления опекунства. Так бы окончил школу в шестнадцать…
Его одноклассника звали Денис Веров. Когда год назад Ян перевелся в эту школу, не сразу заметил тихого, скромного, немного запуганного мальчика. Сутулая фигурка, темные волосы, большие карие глаза. Он сидел за пятой партой справа в третьем ряду, Ян – за первой слева в среднем. Он разглядел Дениса только через пару месяцев – на уроке. Верова за что-то грызла математичка, класс подхихикивал, и кто-то сзади Рубенса язвительно пропел: «Наш голубок не сосчитает даже перья в собственном хвосте!». Очень глупая шутка, но Рубенс не смог не обернуться на Дениса. Тот сидел, низко опустив голову и что-то чиркая ручкой в тетради. Идиотское положение. Надо как-то помочь… Это издевательство! Задачу решил двойной звонок. Большая перемена!
Вместо столовой Денис убежал в сторону раздевалки. А почему он, собственно, так отреагировал на эту дурацкую реплику? Рубенс на некотором расстоянии пошел за ним.
Ян еще не успел признаться себе в надежде – нарушить собственное одиночество. Там, в летнем лагере три года назад, было несерьезно, просто удача – тому мальчику было интересно и голодно, а разговоры – только о девчонках. Хотя, происходило все нежно и трогательно. Очень интимно. Он до сих пор вспоминает те шесть недель счастья, три года назад… Где сейчас найти такого же, как он?
Веров сидел в углу раздевалки на низкой скамеечке, забившись за чьи-то пальто и куртки.
– Эй, не отчаивайся!
Денис вздрогнул и вскинул голову. Он боролся с желанием уйти, бросить школу или вообще ее взорвать. Так придется учить химию и физику… Но хоть будет – зачем! Математичку выкинуть из окна, эту дуру со среднего ряда – под каток! Как я вас всех ненавижу! Это кто?.. Он не сразу узнал Яна, был недоволен тем, что его нашли и уткнулся носом в колени.
– У тебя проблемы с математикой? Хочешь, я тебя подтяну? – Рубенс сел рядом. Денис не отвечал. – На меня не нужно злиться, я тебе не сделал ничего плохого.
– Я не злюсь… Не понимаю, какой тебе от этого толк?
– Просто меня взбесило. Это нечестно и подло. Но вообще-то, я бы на твоем месте плюнул: математичка – дура и стерва. Вышел и забыл о ней.
– Но она заводит против меня весь класс!
– Да кого?
– Да всех.
– Кого всех? На что заводит?
– На издевательства… они все меня ненавидят.
– Знаешь, как это называется? Паранойя. Я ни разу про тебя ничего плохого не слышал – ни от кого из класса.
– …Правда?
– Поклясться могу.
Всю перемену они проговорили. То есть – говорил Ян, Денис слушал, иногда – спрашивал. Уточнил, что такое паранойя. Спросил, откуда Ян знает психиатрические термины.
– Да так… пытался кое-что в себе прояснить.
– Прояснил?
– Нет…
– Почему?
– Видимо, это не диагноз?
– Что именно?
– Да неважно… – отмахнулся Ян. – Ну так-то психиатры считают, что диагноз, но клиника и истории болезней вообще не мои… И вот я уже пять лет маюсь: я – болен или это может быть не только болезнью?
– Не понял, о чем ты…
– И не надо… – Ян улыбнулся и похлопал Дениса по торчащей на уровне груди коленке, – Сейчас звонок будет, пойдем.