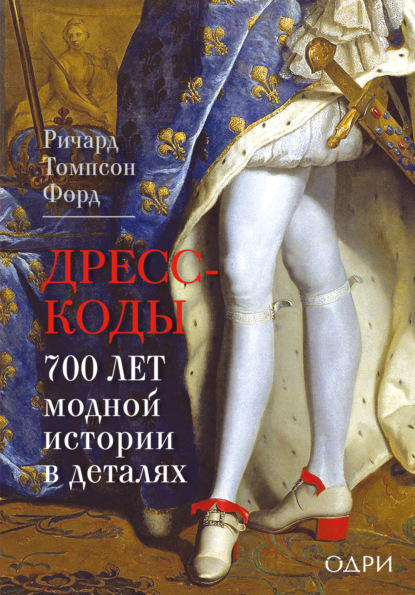
Полная версия:
Дресс-коды. 700 лет модной истории в деталях

В древности и мужчины, и женщины обычно носили драпированную одежду
В Древнем мире штаны были редкостью и считались либо одеждой работников из низших классов, либо экзотическим нарядом цивилизаций Востока, например Персии. Историки Гленис Дэвис и Ллойд Ллевеллин-Джонс писали, что «закрывающая ноги одежда, облегающая талию и ноги…, была отличительной чертой “варваров” в понимании греков и римлян»[59]. Историк Энн Холландер отмечает, что кройку и шитье впервые использовали для льняных штанов и рубах под полные латные доспехи, закрывающие все тело, которые были изобретены в середине Средних веков.
Эти новые доспехи были высокотехнологичным изобретением по сравнению с кольчугой и пластинчатыми доспехами, которые прикрывали лишь некоторые части тела, такие как грудь, предплечья и голени. Новые доспехи стоили дорого и предназначались для воинов и элиты, поэтому сшитое нижнее белье стало символом высокого статуса, когда его стали носить как верхнюю одежду. Мужчины из элиты приняли первую сшитую одежду и отказались от драпированных одеяний, которые раньше носили оба пола[60]. Пошив позволил создавать облегающую тело одежду, которая подчеркивала индивидуальное телосложение ее обладателя. Иными словами, одежда стала индивидуальной.
Если драпированная одежда передавала статус с помощью цвета, декоративных деталей и ткани, пошив позволил ей соответствовать телу, намекая на форму под ней. Мужчины приняли новую моду, и некогда повсеместные драпированные одеяния стали отличительным признаком представителей отдельных профессий – церковников, ученых, представителей закона – и женщин. Позднее женская одежда начала постепенно заимствовать некоторые элементы сшитой мужской одежды, но никогда весь мужской костюм. К примеру, рукава и лифы могли облегать тело, но ниже талии сохранялась прежняя драпированная форма.
Одежда и мужчин, и женщин стала более выразительной, как только она стала более облегающей. Эти изменения позволили одежде передавать большее количество социальных смыслов, даже если эти смыслы были менее знакомы и понятны, чем те, что передавала прежняя драпированная одежда. Вследствие этого одежда со значением впервые стала доступна людям из различных социальных слоев и разных профессий, например, мяснику и его жене, а не только знати и представителям церкви. Одежда стала средством выражения личности. Это называется рождением моды.
Историк Стивен Гринблат отмечает, что термин «мода» использовался в XVI веке и обозначал «способ обозначения себя… совмещение в человеке физической формы… [и] самобытной личности»[61]. Появление у одежды значения было частью глубоких изменений в человеческом сознании, приведших к появлению современного индивидуума. Это требует некоторых объяснений. Разумеется, отдельные особи существовали всегда, но индивидуум не всегда был центром политических и социальных идеалов. В самом деле люди не всегда думали о себе в первую очередь как о личностях. Они были членами групп, определяемых коллективными занятиями, и их идентичность соответствовала их роли или статусу в этой группе.
Мысль о том, что все мы прежде всего личности, обладающие индивидуальностью, которая выходит за рамки нашего социального статуса, нашего занятия и семейного наследия, относительно свежа. Индивидуализм появился в конце Средних веков и в эпоху Ренессанса одновременно с модой. Мода – это выражение индивидуализма, и она не может существовать без него. Не будет большим преувеличением сказать, что индивидуализм тоже нуждается в моде, чтобы она была его главным пропагандистом. Историк Жиль Липовецкий написал:
«[В] конце Средних веков мы можем наблюдать увеличение осознания субъективной идентичности, новое желание выразить уникальность человека, новое возвеличивание индивидуальности, страстную привязанность к проявлениям личности и социальное прославление индивидуальности… [это] облегчило разрыв с уважением традиций [и] …стимулировало личное воображение в поисках новизны, отличий и оригинальности…»
К концу Средних веков индивидуализация внешности была легитимизирована: быть непохожим на других, уникальным, привлекать внимание, демонстрируя признаки отличия, стало законным стремлением…[62] Рождение моды можно сравнить с поворотом в литературе того времени. До Средних веков западная литература обычно имела форму эпоса, хроники важных деяний великих мужчин и женщин: королей и королев, воинов, рыцарей, мудрецов и тех, кто помогал или мешал им в их деяниях исключительной важности.
Герои и героини эпоса определяются статусом и местом в истории: отец нации, освободитель народа, человек, ищущий просветления. Если герой эпоса и раскрывает свою индивидуальную психологию, то обычно это просто черта характера, которая помогает развитию сюжета. К примеру, коварный Одиссей перехитрил сирен. Гордый Ахилл был тщеславен и хандрил в шатре, пока спартанцы обращали в бегство греков. Орест, движимый чувством долга, убил мать, желая отомстить за отца. Страсть Ланселота и Гвиневры стала причиной падения Камелота. Характер героев эпоса не психологический. Нас не так волнует их мотивация, как их действия, и не столько их чувства, сколько их статус.
В прежние времена эмоции распространялись на политику и социальную жизнь лишь отчасти. Король был важен, поскольку он был главой государства по воле Божьей. Знать представляла великие семьи, правителей земель и защитников королевства во времена войн. Духовенство было представителем Бога на земле. Эти люди были интересны тем, что они представляли. Поэтому одежда таких важных людей имела значение потому, что символизировала их статус, а не потому, что отражала их индивидуальность. Одежда простых людей была, как правило, сугубо функциональной, у нее не было никаких отличий, она не имела символического значения.
Появление такого литературного жанра, как роман, отражало и, возможно, помогало создавать новый акцент на личности человека. В романах к действию приводит внутренняя психология персонажа (уже не героя) и тех, с кем он или она встречается, и это не обязательно великие дела. В самом деле, когда исторически важные события описываются в романах того времени, они часто служат контекстом для личной психологической драмы.
Действительно, во многих романах нет крупных событий, интересных с точки зрения политики или истории. Зато есть описания повседневной жизни, для которых характерны в основном бытовые события, а также нюансов социального взаимодействия и личных переживаний. Сравните подвиги Одиссея (который уже был фигурой необычной психологической сложности для эпического героя) и рассуждения рассказчика в романе Пруста «В поисках утраченного времени» или, что более очевидно, в романе Джойса «Улисс». Изменения происходили медленно, набирая обороты с течением времени. Намеки на такое развитие есть в классической литературе, и оно началось уже в XII веке.
К примеру, Боккаччо в «Декамероне» добавил психологической глубины старинным аллегориям. Но процесс достиг кульминации в XVII и XVIII веках в либеральной философии эпохи Просвещения и в том, что литературный критик Иэн Уотт назвал «подъемом романа».
Но это не означает, что раньше люди не выражали себя через одежду или что у них не было насыщенной эмоциональной жизни. Им не хватало нашего современного понимания центральной роли психологической мотивации[63]. Сегодня мы окружены психологическими оценками, исследованиями и категоризацией. «Тип личности» определяется через научные психологические исследования и через популярные психологические «тесты личности», такие как типология по Майерс-Бриггс. Мы решаем, виновен человек или нет, на основании как субъективной мотивации, так и активного действия.
Преступление определяется mens rea (элементом уголовной ответственности с упором на душевное состояние обвиняемого), а нарушение равного обращения – концепцией «дискриминационного намерения». Психология определяет современную личность, для нас это самая суть того, что значит быть человеком. Мы заменили понятие греха идеей злого умысла, исповедальню – кушеткой психоаналитика, бессмертную душу – объективной психикой.
Из-за того, что в центре внимания оказалась психология субъекта, а не героические деяния, роман демократичен, так как это хроника обычного человека. Лишь монархи, воины и мудрецы играли роль в эпическом театре геополитики. Но у каждого есть богатая психологическая жизнь, включенная в события повседневной жизни. Роман уделяет работающим за зарплату и менеджерам среднего звена такое же внимание, как богатым и могущественным, и считает их достойными этого.
В подобном же смысле мода была и остается демократичной. Освободив символизм одежды от традиции, она трансформировала ее выразительность как некогда эксклюзивной платформы обладателей власти в инклюзивную витрину для личности индивида. Мода разрушила договоры. Она позволила каждому, у кого есть на это средства, использовать символизм одежды элиты, подрывая ее эксклюзивность и изменяя ее значение.
Разумеется, те, кто не был элитой, использовали моду в попытке улучшить свою репутацию и вызвать уважение к себе, выдавая себя за элиту или, по крайней мере, демонстрируя, что они так же успешны, как элита. Торстейн Веблен называл это «финансовым подражанием». Но идея о том, что «упрощенная модель зависти, [в которой] занимающие более низкое положение предположительно стремятся… [подражать] вышестоящим»[64], как называет это историк регулирующих законов Алан Хант, это еще не вся история. В наши дни эмпирические исследования опровергают мысль о том, что мода всегда начинается на социальной вершине и постепенно просачивается вниз по мере того, как менее привилегированные группы начинают подражать элитам[65]. Новейшие тренды предполагают прямо противоположное.
Посмотрите, как в дорогостоящих творениях высокой моды используют уличную культуру, такую как панк, гранж и хип-хоп. Апроприация символов статуса амбициозными и мобильными низшими классами никогда не была только подражанием. Они всегда преображали символы привилегий элиты так, чтобы они отражали их собственные амбиции и представления, порожденные их новым социальным положением.
Пытающиеся сойти за элиту выскочки существовали всегда, но куда более серьезной угрозой старому социальном порядку был новый уверенный в себе класс буржуазии. И этот класс настаивал не на том, чтобы присоединиться к знати или копировать ее, а на том, что у него есть собственное место в обществе.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
On file with author.
2
Steinberg, Neil, Hatless Jack, New York: Plume 2004, pp. 227–229.
3
Percentage of Public Schools with Various Safety and Security Measures: Selection years, 1999–2000 through 2013–2014. National Center for Education Statistics, Digest of Education Statistics. https://nces.ed.gov/programs/digest/d15/tables/dt15_233.50.asp
4
Making an Appearance: U.S. Retail Dress Code Guidelines. Starbucks Corporation, 2014.
5
UBS Corporate Wear Dress Guide for Women and Men. UBS, 2010.
6
Chow, Jason. The Rules for Tuxedos. The Wall Street Journal. Dow Jones & Company, November 24, 2010. http://blogs.wsj.com/scene/2010/11/24/tuxedo-rules/.
7
Antonio. How to Wear a Tuxedo: A Man’s Guide to Black Tie. The Art of Manliness, December 17, 2013. http://www.artofmanliness.com/2013/12/17/black-tie-how-to-wear-tuxedo/.
8
Style Guide 2015. Style Guide 2015. Ascot: Royal Ascot, 2015. https://www.ascot.co.uk/sites/default/files/documents/RA 2015_Style Guide_FINAL.pdf.
9
Interview on file with author.
10
Suitable Disruption. The Economist. The Economist Newspaper, 2014. https://www.economist.com/schumpeter/2014/08/04/suitable-disruption.
11
Adam, Hajo, and Adam D. Galinsky. Enclothed Cognition. Journal of Experimental Social Psychology 48, no. 4 (2012): 918–25. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2012.02.008.
12
Slepian, Michael L., Simon N. Ferber, Joshua M. Gold, and Abraham M. Rutchick. The Cognitive Consequences of Formal Clothing. Social Psychological and Personality Science 6, no. 6 (2015): 661–68. https://doi.org/10.1177/1948550615579462.
13
Barthes, Roland, Richard Howard, and Matthew Ward. The Fashion System. London: Vintage, 2010.
14
Miller v. School District No. 167, Cook County, Illinois, 495 F 2d. 658 (7th Cir. 1974).
15
Ford, Richard, Racial Cultures: a critique. Princeton: Princeton, 2005, 205–206.
16
Legal Enforcement Guidance on Discrimination on the Basis of Gender Identity or Expression: Local Law No. 3 (2002); N.Y.C. Admin. Code § 8–102 (23). Legal Enforcement Guidance on Discrimination on the Basis of Gender Identity or Expression: Local Law No. 3 (2002); N.Y.C. Admin. Code § 8–102 (23). New York, NY, 2015.
17
EEOC v. Catastrophe Management Solutions, (11th Cir. 2016).
18
Hooper, Wilfrid. The Tudor Sumptuary Laws. The English Historical Review XXX, no. CXIX (1915): 433–49. https://doi.org/10.1093/ehr/xxx.cxix.433.
19
Buckley, Victoria. Mandillions and Netherstocks – Elizabethan Men and Their Dress. Shakespeare’s England, January 13, 2010. http://www.shakespearesengland.co.uk/2010/01/13/mandillions-netherstocks-elizabethan-men-their-dress/
20
Ibid.
21
Hooper, The Tudor Sumptuary Laws, 439.
22
Ibid., 441.
23
Ibid., 10–12.
24
Killerby, Catherine Kovesi. Sumptuary Law in Italy, 1200–1500. Oxford: Clarendon Press, 2005, 34.
25
Royal Proclamation, June 15, 1574, the 16th year of Elizabeth I.
26
Christopher Breward, The Culture of Fashion (1995), p.54.
27
Hunt, Alan. Governance of the Consuming Passions: A History of Sumptuary Law. New York: St. Martins Press, 1996.
28
Killerby, Sumptuary Law in Italy, 87.
29
Ibid., 24.
30
Ibid., 63.
31
Ibid., 73.
32
Ibid., 24–25.
33
Ibid., 81.
34
Ibid., 61; Machiavelli Niccolò, and Ezio Raimondi. Opere Di Niccolò Machiavelli. Milano: Mursia, 1983.
35
Killerby, Sumptuary Law in Italy, 38; Hunt, Governance of the Consuming Passions, 29–33.
36
Hunt, Governance of the Consuming Passions, 30–32.
37
Jones, Jennifer M. Sexing La Mode: Gender, Fashion and Commercial Culture in Old Regime France. Oxford: Berg, 2004, 31.
38
Roche at 335–345.
39
Cohn, Samuel K. Black Death, social and economic impact of the. In Bjork, Robert E. (ed.). The Oxford Dictionary of the Middle Ages. Oxford University Press, 2010.
40
Scheidel, Walter. The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century. Princeton University Press, 2017.
41
Veblen, Thorstein. The Theory of the Leisure Class. Mentor, 1953, pp. 70, 119.
42
Mitch, David. Education and Skill of the British Labour Force. The Cambridge Economic History of Modern Britain, 2004, 332–56. https://doi.org/10.1017/chol9780521820363.013.
43
Hooper, The Tudor Sumptuary Laws.
44
Ibid.
45
Ibid., 436.
46
Ibid., 441
47
Ibid., 435–436.
48
Ibid., 439.
49
City Corporation Records, Jo. 18, fo. 283 b (1566); Jo. 20 (2), fo. 348 b (1577); Jo.21, fo. 19b (1579); Jo. 21, fo. 36 b (1580); cf. Malcolm, Londinium Btdivivum, ii. 60; Hooper p. 443.
50
Hooper, The Tudor Sumptuary Laws, 445.
51
Ibid., 440.
52
Ibid., 436.
53
More, Thomas. Utopia, pp.127, 133.
54
Ibid., 153.
55
Ibid., 153.
56
Ibid., 157.
57
Ibid., 159.
58
Hunt, Governance of the Consuming Passions, 37.
59
Davies, Glenys and Lloyd Llewellyn-Jones. A Cultural History of Dress and Fashion: Vol. 1, In Antiquity, The Body, 59.
60
Hollander, Anne. Sex and Suits the Evolution of Modern Dress. London: Bloomsbury, 2016.
61
Greenblatt, Stephen. Renaissance Self-Fashioning: from More to Shakespeare. 1980, 2.
62
Lipovetsky, Gilles, Catherine Porter, and Richard Sennett. The Empire of Fashion Dressing Modern Democracy. Princeton: Princeton University Press, 2002, 46–47.
63
See Foucault, Michel. Madness and Civilization; Discipline and Punish; The History of Sexuality, Vol. 1.
64
Hunt, Governance of the Consuming Passions, 68–69, 438.
65
See, e.g., Diana Crane, Diffusion Models and Fashion: A Reassessment, 566 ANNALS AM. ACAD. POL. & SOC. SCI. 13 (1999); George A. Field, The Status Float Phenomenon: The Upward Diffusion of Innovation, 13 BUS. HORIZONS 45 (1970).
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

