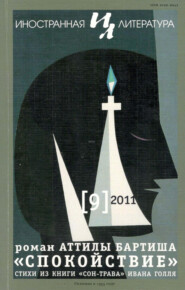
Полная версия:
Иностранная литература №09/2011
После этого вполне понятно, что ты просто обделалась из-за Эстер, мама. Тебе бы хотелось, чтобы я и дальше складывал в ящик письменного стола карты одноразового использования – и еще засушенные розы, светлые локоны и сонеты с бедными рифмами, написанные на моей спине. Чтобы и дальше скапливались в ящике телефонные номера (по которым я никогда не позвоню), крестики, золотые сердечки и звездочки Давида, сорванные с цепочки. Выпускные фотографии и медальоны со знаками зодиака. Рыб столько же, сколько Скорпионов, это неспроста, мама. Само собой, остальные знаки зодиака тоже есть в моей коллекции, и почти к каждому медальончику прилагается нижнее белье, и минимум к одному – вытянутая из кассеты магнитофонная лента с шансонами Пиаф.
Музей ненужных вещей вселяет в тебя надежду, не то, что Эстер, мама. На одной чаше весов Эстер, на другой золотое сердечко или кассета Орво, со вздохами и вскриками, тайно записанными на другой стороне. Отличный сувенир, на прощание кладем в карман бывшему любовнику, совместим приятное с полезным, будет на что подрочить в гордом одиночестве вдали от Андьялфельда. Ты будешь слушать и думать обо мне, правда? А я вру, конечно, буду, потому что в момент расставания нет ничего унизительнее, чем сказать правду. Стыдно и несправедливо, уже через пару часов мы страшимся прикосновений, которые так обжигали нас в троллейбусе или в “Полскифиате”. Мы пылали страстью только оттого, что целых полгода никто не водил нас в съемную комнату в Уйпеште или на виллу в Шашхедь.
Словом, как-то стыдно говорить правду, если после эякуляции страсти остывают, точно в вакууме. Мужчина пугается своего равнодушия, он кивнет, он не скажет ей, что никогда не будет слушать вскрики, записанные на оборотной стороне. Ему нечего вспомнить, только отсветы рекламы государственной лотереи бликами на занавеске после соития, комната от света казалась точно заплесневелая. При воспоминании о сонете, написанном на спине, он подумает лишь о том, что кончик карандаша ужасно царапался, а при воспоминании о наполовину разорванном воротнике он вздохнет лишь о том, что это была его лучшая рубашка. И я знаю, что все эти любовницы на одну ночь вселяют в тебя надежду, но только не Эстер, мама.
На Ракош-Сортировочной в купе сели трое мужчин, железнодорожные рабочие, которые даже по городу перемещаются на поезде. Они приезжают на Восточный вокзал на каком-нибудь пассажирском, только для того чтобы забрать тормозную колодку или попросить взаймы инструмент, а затем выпьют пару фреччей в Уташеллато – и обратно, правда, дорога занимает полтора часа как минимум, но с них никто не спросит. Путешествие на поезде предусмотрено в рабочее время, ведь для железнодорожников троллейбус или автобус – все равно что земля для моряков. Когда моряки встают на якорь в гавани, их начинает мутить. Точно такое же отвращение железнодорожники испытывают к общественному транспорту. Я узнал это от одного проводника, он рассказывал, что, например, не может спать на подушке. Жена тридцать лет стелет ему кровать по всем правилам, а он тридцать лет скидывает подушку на пол и кладет под голову железнодорожную сумку, потому что так он привык еще до свадьбы. А его жена работает в гостинице “Рассвет” и подкладывает подушку чисто машинально, привычка – вторая натура. К счастью, за тридцать лет они поссорились всего один раз. Они только поженились и поехали в дом отдыха профсоюзов, но первый отпуск не задался, поскольку он не взял с собой железнодорожную сумку и четыре ночи подряд не мог заснуть. До утра он ворочался, взбивал подушку, пробовал спать на ивовой корзине жены, в которой они носили на пляж подстилку, но ничего не помогало, и на пятый день им пришлось вернуться домой. Дело шло к разводу, но в итоге женщина признала, что неправа она, не родился еще тот проводник, который сможет спать без сумки.
Еще я говорил с одним машинистом, ему дали инвалидность, потому что, после того как он сбил человека, он не смог вести локомотив. Мне свело руки судорогой, я просто не мог выжать стоп-кран, понимаете? Я стоял на подножке и плакал, а на дороге уже загорелся зеленый свет. Потом пришли стрелочники и начальник станции, и вдвоем они еле-еле оторвали мои руки от железного поручня. Вечером я попал к врачу, в больницу венгерских железных дорог, хотя большинство машинистов по пять-шесть раз в жизни сбивали людей. Это входит в издержки профессии. Им еще во время обучения говорят, что в подобных случаях не стоит сильно переживать, многие бросаются под поезд от страха, например, косули или зайцы, и мы тут ничего не можем поделать. Тем более не наша вина, если кто-то решил свести счеты с жизнью. В такие моменты лучше сигналить и ехать дальше, словно ничего не случилось. Но я даже не просигналил. Меня просто парализовало, понимаете? За поворотом на Татабанью стояла женщина с двумя детьми, она даже не прижимала их к себе, они просто стояли в ряд, как тополя, и смотрели мне прямо в глаза, понимаете? Шестилетняя девочка смотрела на меня, словно на рождественскую елку с подарками. На следующий день в газете опубликовали фотографии с места происшествия и статью о подобных матерях, и журналист сочувствовал машинисту, которого наверняка потрясло это событие. А я хотел отыскать этого журналиста, чтобы спросить у него, он когда-нибудь видел, как мать с двумя детьми стоит на рельсах? Я хотел потребовать, чтобы он публично опроверг им написанное.
Пусть напишет, что они ждали от меня чуда, это я виноват, что не просигналил, но коллеги меня отговорили. Не стоит, сказали они, хватит с тебя проблем, сам знаешь, бесполезно было сигналить. А на следующий день я не смог заступить на работу, мои руки точно приклеились к лестнице электровоза, и меня досрочно отправили на пенсию по состоянию здоровья. С тех пор я развожу вешенки в подвале. Я спросил у этого машиниста, почему в таком случае он все-таки ездит на поезде, а он ответил: молодой человек, это вам не сигареты, так просто от них не откажешься. Железнодорожники не могут жить без поездов. Я езжу бесплатно, поэтому каждое воскресенье сажусь в пассажирский и еду в Дебрецен или в Мишкольц, просто так, без всякой надобности, а вечерним поездом возвращаюсь в столицу.
Когда вошли трое железнодорожных рабочих, я быстро вытащил из кармана книгу, которую получил от священника, чтобы, забившись в угол, притвориться, что читаю, потому что не хотел ни с кем общаться, а того, кто читает, обычно оставляют в покое. У него не спрашивают, откуда он едет, есть ли у него семья и тому подобное. Тот, у кого книга в руках, словно не существует. Не надо угощать его пирожным или напитками, книга делает его невидимым. Сидя напротив читающего пассажира, даже не стараются говорить тише. Короче говоря, я достал книжку, мне было любопытно, что сунул мне в руку отец Лазар, почему он не дал мне “Исповедь” и отчего был так уверен, что я не слышал о ее авторе. Не то чтобы я досконально изучил церковную литературу, но иногда лучше предполагать, чем знать наверняка, отец. И когда я открыл книгу, мне стало стыдно. Наивный отец, он надеется, что бетонные своды моего неверия обрушатся, что я обрету небо и перестану писать про отравленные облатки. Я листал пустую тетрадь в черной кожаной обложке и не чувствовал ничего, только этот легкий стыд. Боюсь, отец, от меня никакого толку, словно от цыганских детей в голландских свитерах. Какой все-таки фарс эта гуманитарная помощь, думал я. Эти несчастные и дальше будут красть лошадей и обдирать с них шкуры, в лучшем случае бездельничать, сидя на лестницах, ведущих в никуда, думал я. Хотя это не так страшно, как нам кажется, думал я. Право слово, удача выбирает храброго, но, если есть конина, зачем нам храбрость. Подарить мне чистую тетрадь – весьма мило с вашей стороны, даже остроумно, но бесполезно, все равно что дарить цыганятам свитера. Я это уже однажды проходил, мои листы А4 тоже сперва были чистыми, а что из них потом вышло, думал я. Вы считаете, что даже Каинова пшеница милее Господу, чем мои рассказы, отец. Что поделаешь, Господу виднее. В лучшем случае я так и останусь подающим надежды писателем, точно звонкая руда, Господь не виноват в этом. Господь всемогущ, или он виноват почти во всем, или почти ни в чем, давайте лучше остановимся на последнем, отец.
Ослепни, сказал я себе лет в десять, и, спотыкаясь, ходил по квартире с открытыми глазами, словно настоящий слепой. Три дня я наливал чай мимо чашки и натыкался на дверной косяк. Это было несложно. Я видел, как и прежде, но мне это совсем не мешало. Одна Юдит знала, в чем дело.
– Я слепой, но не говори никому – сказал я.
– Хорошо, – сказала она и продолжала готовиться к конкурсу в школе, а я смотрел на маму, словно сквозь запотевшее стекло, пока она надевала каракулевую шубку. Потом она быстро выложила на стол из холодильника колбасу и плавленый сыр и убежала в театр.
– В понедельник выходной, – сказала десятилетняя Юдит.
– Уверен, они репетируют, в пятницу спектакль, – сказал десятилетний я.
– В понедельник нет репетиций. У актеров в понедельник воскресенье, так же каку евреев воскресенье в субботу.
– Тогда сегодня не понедельник, – сказал я, после чего она положила скрипку и принесла с маминого стола календарь.
– Посмотри, понедельник.
– Я не вижу, – сказал я.
– Прости, – сказала она. – Вот здесь, понедельник, восемь вечера, Тэ-Чэ.
– Ну да, “Трагедия человека”.
– Томаш Чапман, – сказала она.
– “Трагедия человека”, – сказал я.
– Чапман. Кстати, “Трагедию человека” запретили, после того как особо важные персоны из дома Горького стоя хлопали фаланстеру.
– Тогда кто-то другой. Она обещала, что Чапман больше сюда не придет.
– Они просто репетировали. Тебе мешает, что они репетируют дома? В театре ты же не полезешь на сцену во время представления.
– Я не могу спать, когда они кричат. Пусть не врет. Пусть мама не врет мне. И вообще Чапман не актер, он просто журналист.
– Критик. Это почти актер.
– Ну и что. Пусть ночью репетирует одна.
Юдит взяла меня за руку и отвела на кухню, намазала кусок батона плавленым сыром и вложила мне в руку, будто я в самом деле слепой, тут открылась дверь и вошла мама, но она даже не поздоровалась, даже не сняла каракулевую шубку – сразу побежала в ванную.
– Вот видишь, сегодня нет спектакля, – сказала Юдит, мы закончили ужинать и ушли в нашу комнату.
– У нее мигрень, сегодня не готовься к конкурсу.
– Давай играть в карты.
– Не могу, – сказал я.
– Тогда давай в домино. В домино можно на ощупь.
Минут через десять она-таки зашла к нам, одной рукой она прижимала к пульсирующим вискам мокрое махровое полотенце, другой сжимала ручку двери, сухожилия на руках были напряжены, как будто она сжимала нож, так ее руки были еще прекраснее, и на мгновение я даже забыл, что я слепой. Это длилось всего секунду и потом я снова стал смотреть на нее, словно через запотевшее стекло. Я уставился куда-то в пустоту и не видел ее глаз.
– Не смей вмешиваться в мою жизнь! Я не потерплю, чтобы из-за какого-то сопливого мальчишки меня так унижали! – сказала она и хлопнула дверью.
– Это она из-за Чапмана, – сказала Юдит.
– Ничего страшного. Наденешь на меня пижаму?
– Сколько ты будешь слепым?
– Пока не знаю.
– Почему ты не стал, например, глухим? Так она быстрее заметит.
– Не уверен. Мы ведь тогда не сможем разговаривать.
– В школе ты не сможешь быть слепым.
– Я не пойду. Утром я натру себе нос марганцовкой, как будто из него идет кровь.
– Можно я останусь дома? Мне же нужно заниматься.
– Лучше уходи. Я не люблю Вивальди.
– Жалко. Вивальди прекрасен, – сказала она. – Если ты слепой, ты не можешь читать. На самом деле ты ничего не можешь делать. Если бы ты был глухой, ты бы смог читать и не слышал бы, как я занимаюсь.
– Тогда мне промоют уши. Или проколют, как Лаци Эрвешу перед Рождеством.
– Она так и так отведет тебя к врачу.
– Но мне только посветят и потом закапают глазные капли.
– Откуда ты знаешь?
– Элемер рассказывал, как он ходил к врачу. Они с помощью каких-то капель расширяют зрачки, и целый день ты все видишь расплывчато, как будто у тебя слезы на глазах.
– Врач будет знать, что ты видишь.
– Откуда?
– Ты будешь мигать, когда тебе посветят. Настоящие слепые никогда не мигают.
– Спорим, я не буду мигать. Сыграем в гляделки.
– На что спорим?
– Если я не буду мигать, целую неделю ты будешь младшей.
– На это я не спорю. Мы уже решили.
– Хорошо, тогда ты принесешь мне патрон с кровью из маминой гримерки. Марганцовка щиплет нос.
– Ладно. А если я выиграю?
– На следующей неделе я напишу за тебя домашнее задание по венгерскому языку.
– По грамматике тоже, – сказала она.
– Ладно, – сказал я.
И Юдит на следующий день стащила для меня из театра целую коробку патронов с кровью, потому что я смотрел на нее, как настоящий слепой. Я не мигнул, даже когда она помахала нотами перед моим лицом.
– Ты выиграл, – сказала она и надела на меня пижаму, но мама заметила, что я слепой, только через два дня.
– Нам нужно пойти к врачу. Это ужасно, у тебя слишком часто идет кровь из носа. Ты постоянно пропускаешь уроки, – сказала она.
– Я наверстаю, – сказал я и собирался зачерпнуть себе чайной ложкой яйцо всмятку, но промахнулся.
– Что с тобой? – спросила она.
– Ничего, сейчас получится – сказал я и снова промахнулся, глядя куда-то в пустоту мимо ее синих глаз.
Она раздраженно подняла яйцо, вытерла скорлупу, и затем снова поставила передо мной, но моя рука не нащупала солонку. Я осторожно шарил по столу, чтобы не перевернуть чашку с чаем, наконец, я дотянулся до яйца, мама все больше злилась, она не допускала мысли, что я ослеп.
– На, вытри руку, – сказала Юдит и принесла фартук, я потянулся за ним куда-то не туда и подождал, пока она вложит его мне в руку.
– Что все это значит? – спросила мама.
– Он третий день не видит, – сказала Юдит.
– Что значит, не видит? Почему не видит?
– Потому что он ослеп. Когда здесь появляется Чапман, брат часами смотрит на лампочку накаливания.
– Господи! – вскрикнула мама, бросилась ко мне и обхватила мою голову ладонями, но я продолжал смотреть куда-то в пустоту мимо ее синих глаз.
– Кровь из носу у него идет от марганцовки, – сказала Юдит. – Потому что он боится на ощупь идти в школу.
– Господи боже мой, одевайся сейчас же, – сказала мама.
– Он не может. Третий день я его одеваю, – сказала Юдит.
– Почему вы не сказали? Почему все это время молчали? – спрашивала она, и первый раз в жизни я увидел, как она плачет, но я был слепым. Я позволил ей стащить с меня пижаму, надеть на меня первое, что подвернулось ей под руку, и натянуть ботинки на мои босые ноги.
– Мы не хотели мешать тебе перед репетицией, – холодно сказала Юдит, продолжая есть яичницу. – Кстати, ты не надела на него носки, – сказала она, наслаждаясь маминым отчаянием.
– Так принеси! – заорала мама.
– Все грязные, – соврала Юдит.
– Тогда принеси грязные, – сказала она тихо, потом вызвала такси и на руках донесла меня до машины.
– На Пала Хайма, – сказала она шоферу, и голос у нее был совершенно чужой. А я уже на проспекте Уллой понял, что буду мигать, глядя на лампу у врача. Я даже не смог смотреть в пустоту мимо маминых синих глаз. Когда она снова обхватила мою голову ладонями, мой взгляд утонул в ее ослепительных ирисах, и лицо стало совсем мокрым от слез, лучше бы я продержался хотя бы до больницы, но я прозрел. Я видел, каку нее вытягивается лицо и как оно каменеет, словно у памятника.
– Разворачивайтесь, – приказала она шоферу, тем же голосом она разговаривала с таксистом десять лет спустя, когда отвозила на Керепеши бутафорский гроб. Мы молча доехали до дома, она сухо сказала, не вздумай еще раз меня шантажировать, и ушла, не попрощавшись.
Трое железнодорожников ругали советские власти, которые выводили из страны свои войска. Из-за войсковой передислокации встали венгерские грузоперевозки, по ночам секретные составы со свистом мчатся через всю страну и увозят с собой что только можно. Должен же быть предел этому бардаку. После того как последний вагон покинет Захонь, мы окажемся в глубокой заднице. В ящиках с боеприпасами только для прикрытия лежат в ряд ручные гранаты, под ними паркет, выломанный в казармах. У Токоша они вынули окна. Слой окон, слой шерстяных одеял, чтобы не побились стекла, они вывинтили даже краны и душевые решетки. Тарелочные мины набиты аспирином, ружейные стволы шариковыми ручками и стержнями, а топливные баки в ракетах земля-земля вроде как уже набивают сегедской паприкой. Эти советские вывозят даже шоколад и парадскую минеральную воду. Если бы они могли, они бы вывезли всю венгерскую пищевую промышленность. А вот дерьмо, да, дерьмо остается здесь. Они потихоньку спустили дизельное топливо в Залу, чтобы было место для кускового сахара. Цистерны заполнены дорогущим кусковым сахаром, а рыба по ходу выпрыгивает на берег, чтобы не задохнуться от нефти. В окрестностях Печа даже у шестилетних детей есть противогазы, они ходят в них в детский сад, как инопланетяне, и гиблое дело отпускать ребенка в лес, потому что за кустами шиповника кучами лежат детонаторы. Одна учительница, плача, рассказывала корреспонденту, что попросила ластик у первоклассника, а у пацана в пенале одни автоматные патроны. Боевые патроны преспокойно лежали в ряд, как простые карандаши. И тогда она проверила у всех ранцы и нашла боеприпасов больше, чем книг и тетрадей. За тридцать патронов дают ручную гранату, такой курс, говорят первоклассники и еще жалуются, что им перепадают остатки, потому что четвероклассники нашли яму с оружием, и у них даже есть целый автомат. Представляете, говорят они, автоматом гораздо лучше рубить деревья, чем цепной пилой. Папа не меньше двух минут возится с кустом, а Шани Понграц из четвертого Б за полторы минуты выпустил очередь, и дерево вмиг рухнуло. Мы засекали по времени, и не волнуйтесь, мы все отошли.
Надо было им всем сгинуть, мать их за ногу, там в тайге, сказал один рабочий. Они здесь пердят уже сорок лет и даже уйти не могут по-нормальному. Этих сам Бог не научит хорошим манерам. Хуже цыган. Те хотя бы не устраивают танковые парады. Украдут, съедят – только и всего. А после этих через год не восстановишь. Зато по крайней мере был порядок. Ты с дуба рухнул, приятель. Где здесь был порядок? Когда здесь был порядок? Ладно-ладно, я только говорю, что была военная техника. Этого отрицать ты не можешь. Были истребители, и танки, и все остальное, а сейчас почти ничего. Венгерские солдаты за сорок лет даже бегать не научились. Они только ржать будут и пялиться, как албанский осел на вертолет, если припрутся словаки или румыны. Двор без собаки, я вам говорю. Сам знаешь, чем это грозит. Сюда любой может прийти. Так не все ли равно, виски тут пьют или водку? Тебя тоже угостят. Пускай лучше тут бздит тот, к кому мы привыкли. Я точно не привык. А че так? Они не сильно воду мутили. Они с нами вместе не ужинали, за твоей женой не бегали, мы даже не знали, где они живут. Спрятались за табличкой “Не фотографировать” – отличная идея. Думаешь, негры лучше? Пять лет, и твои внуки – метисы, или мулаты, или черт знает кто. Сюда не придут негры. Не придут, понимаешь ты? Точно тебе говорю. Если не придут, тем хуже, потому что тогда нам п….ц. Тогда послезавтра румыны вывесят свой триколор на парламент, как в восемнадцатом. Я тоже не любил этих сраных русских, жизнь заставила. Они и моего старшего брата застрелили в пятьдесят шестом. Фаустпатронами. Он скрючился, как младенец. Жуткая вещь эти фаустпатроны, если угодят в кабину, сделают из нее брикет. И все же я считаю, если уж они тут были и мы привыкли к их рожам, лучше б они остались.
С тех пор как начался вывод войск, подобные разговоры можно было услышать в продуктовом магазине, и в пивной, и в трамвае, как в годы, когда провозгласили Республику. Тогда все тоже были очень политизированы. Одни хотели нейтралитет и много банков, как в Швейцарии, другие монархию, ведь есть корона и король жив. Он отлично говорит по-венгерски. Нужно аккуратно вынести картины из музея и призвать домой Отто Габсбурга. По крайней мере, он настоящий аристократ, а не бродяга, как остальные, без роду без племени. Речь даже заходила о дотрианонской Венгрии. Сборщик платы за коммунальные услуги считал, что есть неплохие шансы пересмотреть Трианонский договор. Сами французы говорили, что он был, по сути, несправедливым. Он был куплен, словно футбольный матч. Румыны пригнали вагон со шлюхами, и, пока старикашки пили шампанское и проводили новые границы, девицы под столом их возбуждали. Появились документы, господин писатель, все пункты будут пересмотрены.
Были те, кто ни о чем не сожалел, только от жидов защити нас, Господи, иначе дела у нас пойдут прахом. В рамках государственной программы венгерские матери будут закапывать своих детей и через двадцать пять лет израильское правительство переедет в Будапешт, как пить дать. Евреи побросают свои горячие точки в пустыне возле Мертвого моря и откроют кибуцы в Малом Альфельде. Они уже там скрываются, загребают жар нашими руками и потихоньку губят то немногое, что еще осталось от страны святого Иштвана. В школах пока не ввели Закон Божий как обязательный предмет, но уже есть еврейские полчаса по телевизору. И это только то, что на поверхности, что на своей шкуре ощущает венгерский человек. Потому что о нью-йоркских секретных вкладах мы, естественно, никогда не узнаем. Хотя напечатали же на какие-то средства массу предвыборных плакатов с портретом раввина, ну, конечно, а вот на “Протоколы сионских мудрецов” ни филлера.
И само собой, были те, кто ждал, вот-вот придет почтальон с нью-йоркскими секретными деньгами, на которые можно будет поднять страну из руин и финансировать культуру. Ведь должен же быть предел беззаконию, кровавое наследие времен диктатуры цветет пышным махровым цветом. Хорошо еще, что на улицах не хватают людей, но до этого недалеко. Скоро неонацисты высадят десант на берег Дуная, как нилашисты. Только от них спаси нас, Господи. Разве тебе не достаточно того, что мы выстрадали? Так пускай придет наконец почтальон с секретными деньгами, чтобы можно было сделать из Венгрии маленькую Европу, и никаких больше возмутительных кровопролитий. Ей-богу, стыд и срам.
Другие, напротив, клялись, что ничего не изменилось и не изменится, пока эта земля терпит коммунистов. Они притворяются, делают вид, будто отдали власть. Пустили Западу пыль в глаза, дескать, свобода печати, а на самом деле все до единого влились в ряды демократической партии. Они отлично подстраховались, все деньги прибрали к рукам. Вот вам, например, дом отдыха профсоюзов. Ни один дурак не отдаст без боя эти дома отдыха, если нет отступных. Все это сказки. Смена режима проплачена, как футбольный матч.
И, естественно, были те, кто считал, что диктатура пролетариата, конечно, нуждается в некоторых реформах, но прежде надо расстрелять грязную шайку демократов. О чем, скажите, они думают? Как это, пролетарии всех вилл объединяйтесь? Покажите нам их рожи! А кто поднял эту страну после сорок пятого? Кто создал здесь тяжелую промышленность? Венгерские автобусы ходят даже в монгольской пустыне, венгерские шпалы лежат под африканскими рельсами, из венгерского алюминия делают обшивку для Ту-152, и все равно пролетарии всех вилл объединяйтесь? Ну и куда в таком случае смотрит полиция? Что значит отменили дружинников? Что значит у советских военных нет времени, потому что они собирают чемоданы?
Подобные речи можно было услышать повсюду. О политике рассуждали даже бездомные. Они таскались на демонстрации, брели в хвосте процессии на похоронах, за небольшие суточные раздавали листовки, а вечером собирали большие плакаты, потому что ночью ими можно было неплохо укрыться. Учредители газет и журналов печатали экземпляров больше, чем грамотных людей в стране, чтобы для диаспоры осталось. Пятнадцать миллионов экземпляров разлетались мгновенно, только бы, спаси Господи, печатные станки не встали. За несколько минут ожила кустарная промышленность, производили все, от новых значков до новых уличных вывесок, ослепительно красивые старшеклассницы продавали консервные банки с последним дыханием коммунизма внутри – консервный завод “Глобус” поддержал революцию, выпустив тысячу пустых жестяных банок для печеночного паштета. И у каждой старшеклассницы было в голове, как минимум, три варианта дальнейшего развития событий, и все девушки были одна другой краше. Наверное, впервые за тысячу лет в стране воцарилась райская идиллия, пускай даже ненадолго. Все рвались к микрофону и никто – к пистолетной кобуре, будто вообще не существовало насильственной смерти, разве что убийство из-за ревности. Даже водомет применяли только однажды, в одном переулке, но скоро выяснилось, что в него налит горячий чай. Демонстранты становились в очередь к водомету, получали двести миллилитров чаю в пластиковый стаканчик и возвращались обратно к парламенту. Ну разве не чудо, господин писатель? Конечно, господин дворник.

