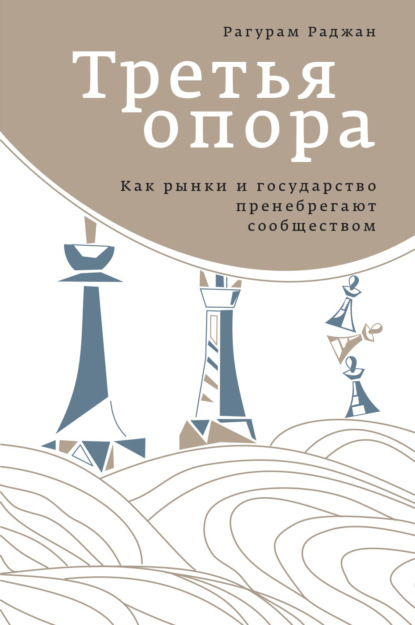
Полная версия:
Третья опора. Как рынки и государство пренебрегают сообществом
Как только рынки освободились от страха перед экспроприацией со стороны государства, они начали процветать. Как мы увидим в главе 3, рыночная опора стала доминирующей в ходе первой промышленной революции, но зачастую это происходило в ущерб общине. Борьба за расширение избирательных прав во многом была борьбой общины за более демократическую власть, на этот раз для защиты труда, а не только материальной собственности. Затем окрепшая община, благодаря движениям, подобным движениям популистов и прогрессивистов в Соединенных Штатах в конце XIX века, сыграла свою роль в восстановлении баланса, оказав давление на государство, чтобы оно сохраняло конкурентность рынков и реальные возможности для многих.
Рынки не обязательно всегда должны быть предметом желания демократической общины. В главе 4 мы опишем три ситуации, когда община не добивается конкурентных рынков: (1) когда рыночные игроки и практики считаются нелегитимными, а государство кажется лучшей альтернативой; (2) когда государство слабо, а общину легко подкупить, чтобы она оставалась апатичной; (3) когда ни государство, ни община не предлагают людям возможностей и поддержки, необходимых для участия в нестабильных, меняющихся рынках. Чтобы люди желали рынков, эффективное государство вместе с заинтересованной общиной должно создать механизмы, которые предоставят людям возможности и поддержку, позволяющие получать выгоды от рынков. Мы увидим, как в либеральных рыночных демократиях, которые появились в развитых странах к началу XX века, удалось достичь баланса между всеми тремя опорами. В следующих четырех главах мы расскажем о тысячелетней эволюции опор. Хотя для историков это выглядит кавалерийским наскоком, нам этого будет достаточно, чтобы дать представление о том, какие проблемы они решили.
История преподает нам важные уроки, которые позволяют увидеть, почему каждая опора имеет большое значение и как эти опоры сочетаются друг с другом для создания либеральной рыночной экономики. Несмотря на все различия, можно увидеть повторяющиеся закономерности взаимодействия между опорами. Однако читатели, которые хотят перескочить к современности, могут бегло просмотреть часть I и перейти к части II, где мы вкратце рассмотрим послевоенную эпоху перед тем, как заняться объяснением генезиса сегодняшних проблем. Затем при желании можно вернуться к части I, чтобы увидеть историческую перспективу.
Глава 1. Терпимость к алчности
В этой главе мы увидим, как рынки и государство отделились от средневековой общины и стали самостоятельными опорами. Мы рассмотрим это на примере развития наиболее типичного рыночного договора – займа. Эпизодическую роль в этой истории сыграет католическая церковь, которая сначала заполнила собой вакуум, оставшийся из-за отсутствия сильного государства, а затем соперничала с государством за то, чтобы предоставлять защиту простолюдинам, а также эксплуатировать их. Для нас здесь важно, что церкви удалось противостоять государству, будучи вооруженной только силой религии. Она утвердила идею о том, что в дополнение к светской власти и над ней существует высшая легитимность, которая ограничивает действия государства. Как мы увидим, это был важный шаг на пути к конституционно ограниченному государству, которое, в свою очередь, было необходимо для полноценного развития рынков.
Договор займаВ отличие от уже рассмотренных нами услуг и одолжений, которыми обмениваются члены общины, договор займа – это явное обязательство заемщика погасить сумму займа с процентами в установленное время, а в случае его неисполнения кредитор сможет использовать силу закона для того, чтобы вернуть стоимость одолженного. Как правило, он будет делать это забрав себе залоговое обеспечение. Если залог, предложенный заемщиком, является ценным – например, фермер берет в долг под свою землю, – кредитору не нужно много знать о заемщике или внимательно следить за его деятельностью. Делая условия явными, долговой договор освобождает кредитора от зависимости от переменчивых жизненных обстоятельств заемщика или его блажи. У заемщика больше нет выбора, отдавать долг или нет и когда это делать, – он должен заплатить в оговоренный срок или понести штрафные санкции, предусматривавшие в некоторых обществах долговое рабство или смерть. Поскольку договор займа записан, он не зависит от ненадежной памяти человека или общины. Одолжения или услуги могут быть забыты, долг – никогда.
Таким образом, долг – это независимая передача денег под проценты, которая не предполагает необходимости поддержания социальных связей. Таким образом, кредиторы могут не принадлежать к общине. Фактически у таких кредиторов дела с возвратом долга могут обстоять лучше, потому что они не станут сочувствовать заемщику, который переживает трудные времена, в отличие от кредитора из общины. Шейлок, который ненавидел Антонио, шекспировского «венецианского купца», был в некотором смысле идеальным кредитором, поскольку он вполне готов был забрать свой фунт плоти Антонио, если тот не погасит свой долг. Поскольку у Антонио были все стимулы для того, чтобы расплатиться, Шейлок готов был дать ему взаймы.
Эти атрибуты долга – то, что он является явным, часто обеспеченным залогом и безличным, – кажутся благоприятствующими кредитору. Тем не менее они также значительно облегчают потенциальному заемщику получение кредита под низкую процентную ставку в условиях конкуренции: как ни парадоксально, но чем жестче долговой договор и чем больше он кажется работающим в пользу кредитора, тем больше и шире доступ заемщика к финансам. Если, напротив, сочувствующие суды приостанавливают полномочия кредитора на возврат одолженного в случае возникновения трудностей у заемщика, кредиторы не будут стремиться кредитовать тех, кто представляет даже сравнительно небольшой риск, и кредитование иссякнет. А те кредиты, которые все же будут предоставляться рискованным заемщикам, будут выдаваться по невероятно высоким процентным ставкам. Таким образом, именно из-за суровости договора займа, а также способности и готовности кредитора обеспечить его соблюдение заемщик получает легкий доступ к средствам. Это не означает, что все, кто хочет денег, должны иметь возможность занять их или что прощение долга – это плохая вещь. Речь идет только о том, что договор займа отвечает своей цели.
В отношениях, которые мы рассматривали до сих пор, один член общины делает одолжение другому, не ожидая, что с ним расплатятся в полной мере. В типичном договоре займа условия, в том числе процентная ставка, предусматриваются таким образом, чтобы они устраивали обе стороны, даже если они никогда больше не увидятся. Отношения оставляют возможности открытыми; договор займа предполагает их закрытие. Отношения требуют от сторон некоторой эмпатии друг к другу или некоторого чувства, что они являются частью более крупного и длительного целого; договор займа полностью самодостаточен. Именно в этих смыслах долговой договор представляет собой типичную индивидуалистическую рыночную трансакцию между независимыми сторонами.
Несмотря на полезность долга, многие религии и культуры запрещали ссуживание под проценты. Законы о ростовщичестве, ограничивающие процентные ставки, препятствуют выравниванию выгод как заемщика, так и кредитора. Кредитор получает меньше, чем он мог бы получить на свободном рынке. Почему появились такие законы?
Запрет ростовщичестваОбщества часто запрещают ссуживание под проценты, превышающие установленную умеренную ставку. В «Артхашастре», приписываемой Каутилье, советнику индийского императора Чандрагупты из династии Маурьев и написанной около 300 года до н. э., есть подробные предписания о максимальной процентной ставке, которая может взиматься за различные виды кредитов. Предельный уровень составлял 1,25 % в месяц или 15 % в год для обычных займов на потребительские цели или неотложные нужды[40]. Он достигал 5 % в месяц для обычных коммерческих кредитов, 10 % в месяц для более рискованных коммерческих сделок, которые предполагали путешествия через леса и 20 % в месяц для морской торговли. Единственное исключение из этих ограничений было в регионах, где правитель не мог гарантировать безопасность, там судьи должны были принимать во внимание обычную практику взаимодействия между должниками и кредиторами. Таким образом, древняя Индия признавала различие между потребительскими кредитами и кредитами, берущимися для финансирования прибыльной торговли, с более низкими процентными ставками по первым. Также признавалось, что кредитор должен был получать более высокую процентную ставку, когда коммерческое предприятие было более рискованным.
Ветхий Завет был гораздо менее терпим к ростовщичеству: «Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и не налагай на него роста» (Исх. 22:25). Однако в другом месте Ветхого Завета есть исключение – иноземцы. Во Второзаконии говорится: «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею» (Втор. 23:19–20).
Является ли взимание процентов необоснованной компенсацией? В конце концов, кредитор должен отложить свое собственное использование денег – подумайте обо всех тех людях средних лет, которые вкладывают деньги в долговые взаимные фонды, чтобы обеспечить свою старость, деньги, которыми фонды затем кредитуют фирмы. Отложенное вознаграждение, а также неудобства, связанные с отсутствием денег на неотложные нужды, требуют некоторой компенсации. Также ее требуют и любые расходы по подготовке кредитного документа, проверке данных заемщика и администрированию займа. Кредитор также принимает на себя риск, что заемщик может не вернуть долг или вернуть его лишь частично, несмотря на все принятые меры предосторожности. Поэтому ему также нужна компенсация за риск невозврата долга. Наконец, использование кредитором денег, а также его способность покупать товары, когда он получит деньги, могут сильно отличаться от сегодняшних. Это еще один риск, который он несет.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Anne Case and Angus Deaton, «Rising morbidity and mortality in midlife among white non-Hispanic Americans in the 21st century», Proceedings of the National Academy of Sciences 112, no. 49 (November 02, 2015), doi:10.1073/pnas.1518393112.
2
Взято из: dictionary.com. http://www.dictionary.com/browse/community?s=t. Согласно Merriam-Webster online, сообщество – это «люди с общими интересами, живущие в определенной местности». https://www.merriam-webster.com/dictionary/community.
3
Raj Chetty and Nathaniel Hendren, «The Impacts of Neighborhoods on Intergenerational Mobility I: Childhood Exposure Effects», rev. ed. NBER Working Paper No. 23001, May 2017.
4
Мифологические существа в иудеохристианской традиции. Упоминающееся в Ветхом Завете морское чудовище Левиафан символизирует государство в трудах великого английского философа Томаса Гоббса (1588–1679) и последующих авторов. Бегемот – демон плотских желаний, прежде всего чревоугодия. У Рагурама Раджана символизирует крупный бизнес. – Прим. пер.
5
См.: Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (Orlando: Harvest, 1994); Ханна Арендт, Истоки тоталитаризма (Москва: ЦентрКом, 1996).
6
Термин «воображаемое сообщество» ассоциируется с книгой Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма»: Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, 1983); Бенедикт Андерсон, Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма (Москва: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001).
7
University of Illinois, Chicago Great Cities Institute, Pilsen: October 2017 Quality of Life Plan, October 2016, https://greatcities.uic.edu/wp-content/uploads/2015/10/FINAL-Pilsen-QoL-Plan-Full.pdf.
8
Robert Sapolsky, Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst (New York: Penguin Press, 2017), 311; Роберт Сапольски, Биология добра и зла: Как наука объясняет наши поступки (Москва: Альпина нон-фикшн, 2019), 282.
9
«My Neighborhood Pilsen – Safety», WTTW (website), accessed August 07, 2018, https://interactive.wttw.com/my-neighborhood/pilsen/safety.
10
См., например: Allen Berger, Nathan Miller, Mitchell Petersen, Raghuram Rajan, and Jeremy Stein, «Does Function Follow Organizational Form? Evidence from the Lending Practices of Large and Small Banks», Journal of Financial Economics 76, no. 2 (2005): 237–269.
11
Raghuram G. Rajan, Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010), 45; Рагурам Раджан, Линии разлома: скрытые трещины, все еще угрожающие мировой экономике (Москва, Издательство Института Гайдара, 2011), 90–91.
12
Цит. по: Charles Moore, Daniel H. Burnham, Architect, Planner of Cities. Volume 2. (Boston: Houghton Mifflin, 1921), 147.
13
См.: Amartya Sen, Identity and Violence: The Illusion of Destiny (New York: Norton, 2006).
14
Ferdinand Tönnies, Community and Society – Gemeinschaft und Gesellschaft, trans. Charles P. Loomis (Mineola, NY: Dover Publications, 2002), 65; Фердинанд Тённис, Общность и общество. Основные понятия чистой социологии (Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2002), 64.
15
См.: Stephen Marglin, The Dismal Science: How Thinking like an Economist Undermines Community (Cambridge, MA: Harvard Business Review, 2010). Эта великолепная книга также указывает на хрупкость сообщества перед лицом наступления рынка и государства; в целом роль рынков оценивается в ней более скептически.
16
См., например: Robert Sapolsky, Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst; Роберт Сапольски, Биология добра и зла: Как наука объясняет наши поступки.
17
См.: Sebastian Jung, Tribe: On Homecoming and Belonging (New York: Twelve, 2016), 37; Desmond Morris and Peter March, Tribes (London: Pyramid Books, 1988), 34–35.
18
Elenore Smith Bowen [Laura Bohannan, pseud.], Return to Laughter (New York: Anchor Books, 1964), 47, 131.
19
Kaivan Munshi and Mark Rosenzweig, «Networks and Misallocation: Insurance, Migration, and the Rural-Urban Wage Gap», American Economic Review 106, no. 1 (January 2016): 56, http://dx.doi.org/10.1257/aer.20131365.
20
Avner Greif, «Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Evidence on the Maghribi Traders», Journal of Economic History 49, no. 4 (December 1989): 857–882.
21
Douglas Oliver, A Solomon Island Society (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1955), 454–555, цит. по: Marshall Sahlins, Stone Age Economics (Chicago: Adline-Atherton, 1972), 197; Маршалл Салинз, Экономика каменного века (Москва: ОГИ, 1999), 181.
22
Robert C. Ellickson, Order without Law (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991), 61–62; Роберт Элликсон, Порядок без права (Москва: Издательство Института Гайдара, 2017), 118–120.
23
Ellickson, Order without Law, 60; Элликсон, Порядок без права, 117.
24
Edward C. Banfield, The Moral Basis of a Backward Society (Glencoe, IL: The Free Press, 1958), 10; Эдвард Бэнфилд, Моральные основы отсталого общества (Москва: Новое издательство, 2019), 12.
25
Banfield, Moral Basis, 22; Бэнфилд, Моральные основы, 22.
26
Ibid, 92; Там же, 95.
27
Ibid, 17; Там же, 18.
28
Ibid; Там же.
29
Banfield, Moral Basis, 19; Бэнфилд, Моральные основы, 20.
30
Ibid, 18; Там же, 19.
31
Mitchell A. Petersen and Raghuram G. Rajan, «The Effect of Credit Market Competition on Lending Relationships», Quarterly Journal of Economics 110, no. 2 (May 1995): 407–443.
32
Peter Mathias, The First Industrial Nation: An Economic History of Britain 1700–1914 (New York: Charles Scribner, 1969), 158–160.
33
Имеется обширная литература, выражающая тревогу по поводу того вреда, что наносят сообществу перемены, включая появление рыночных сил. О разрушении сообщества и его культуры писали такие мыслители, как Эдмунд Бёрк, Юстус Мёзер, Карл Поланьи, Жан-Жак Руссо и, конечно же, Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Великолепный обзор этих идей см. в: Jerry Muller, The Mind and Market: Capitalism in Western Thought (New York: Alfred Knopf, 2002).
34
Этот параграф опирается на: Mathias, First Industrial Nation.
35
Duncan Bythell, «The Hand-Loom Weavers in the English Cotton Industry during the Industrial Revolution: Some Problems», The Economic History Review 17, no. 2 (1964): 339–353.
36
Ellen Barry, «In India, a Small Band of Women Risk It All for a Chance to Work», The New York Times, January 30, 2016, https://www.nytimes.com/2016/01/31/world/asia/indian-women-labor-work-force.html; Ellen Barry, «„We Will Not Apologize“: Chronicling the Defiant Women of India», The New York Times, January 30, 2016, https://www.nytimes.com/2016/01/31/insider/we-will-not-apologize-encountering-the-defiant-women-of-india.html.
37
См.: Avinash Dixit, «Governance Institutions and Economic Activity», American Economic Review 99, no. 1 (March 2009): 5–24, где приводится пример того, как ситуация для сообщества ухудшается по мере его роста из-за трудностей в распространении информации.
38
David de la Croix, Matthias Doepke, and Joel Mokyr, «More than family matters: Apprenticeship and the rise of Europe», Vox, CEPR Policy Portal, March 2, 2017, https://voxeu.org/article/apprenticeship-and-rise-europe.
39
Joel Mokyr, A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2017).
40
Kautilya, The Arthashastra, ed. L. N. Rangarajan (New Delhi: Penguin Books, 1992), 426; Артхашастра, или Наука политики (Москва – Ленинград: Издательство АН СССР, 1959), 188.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

