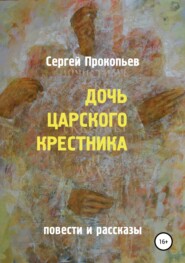 Полная версия
Полная версияДочь царского крестника
– Скажу отцу Александру, – говорила мама, – что ты в циркачи собрался, а не в священники.
У Миши было своё облачение пономаря, свой стихарь, мама постаралась.
– Будешь аки ангел в алтаре, – говорила, расшивая стихарик золотой нитью, – батюшке ангелы служить помогают, вместе с ними ты.
В алтаре стояла печка, над плитой Миша разжигал кусочки древесного угля. Когда они разгорались, осторожно брал их щипчиками и опускал в кадило, на угли бросал ладан. Он был в больших комочках, предварительно Миша размельчал его в специальной посудине. Запах ладана остался на всю жизнь запахом детства. Дома в праздники мама обязательно кадила иконы, для этого имелась фарфоровая посудина. Однажды, засыпая в неё угольки и ладан, с улыбкой спросила сына:
– Знаешь, кто ладана боится?
– Нет.
– Неужели не слышал пословицу: «Боится как чёрт ладана»?
– Так ты, мама, чертей гоняешь? У нас что – их много?
– Чертёнок у нас в доме один, – потрепал сына по голове отец.
– И тот ладана не боится, – засмеялась мама и перекрестилась: прости меня, Господи.
Звонить на колокольне входило в обязанность Миши. Отец сначала научил его бить в большой колокол, позже Миша освоил перезвоны. Это послушание пономаря выполнял с превеликим удовольствием. Вприпрыжку взбирался по крутой лестнице, сжимал в ладонях шершавую верёвку, и возникало ощущение единства с тяжёлым языком колокола, который неподвижно висел над головой. Стоило потянуть верёвку на себя, язык послушно начинал движение, ударялся о стенку колокола и тот обрушивал на звонаря густой звук: бом!… Ещё удар, ещё… Колокол пел, сзывая на службу, а Мише становилось весело, так бы, казалось, и не уходил отсюда, снова и снова принуждая колокол будоражить кровь низкой нотой… К гулу большого колокола прибавлял высокие голоса малых… В рождественскую и пасхальную ночные службы на колокольне приходило ощущение полёта. Где-то внизу в полной темноте лежит Ананси, большинство его жителей в храме, а он, заставляя колокола петь, плывёт вместе со звонницей в ночи…
Во время литургии Миша подавал батюшке кадило, на малом и великом входах был свещеносцем. После причащения мыл по благословению батюшки ложицу. Батюшка, отец Александр, часто хвалил маленького помощника. Говорил родителям:
– Глядишь, и по стопам деда пойдёт. Хорошо, кабы так получилось, смышленый мальчишка.
Мама была глубоко верующим человеком. Дома кроме прочих висели две старинные иконы – Спас Нерукотворный и Казанская Божья Матерь. На особой полочке лежала Библия в кожаном переплёте. Всё это принадлежало когда-то Мишиному деду по маме, священнику. До революции у него был приход в Забайкалье, в Борзе. Дед один из тех тысяч и тысяч иереев, кто принял мученическую смерть от новой власти. Его старшего сына, офицера русской армии, расстреляли взбунтовавшиеся в революцию солдаты. Второй сын, тоже офицер, сгинул в Гражданскую войну. Дочь, Мишина мама, бежала в Маньчжурию. У Мишиного отца никто не погиб в смутное время, некому было – рос сиротой. До революции служил мальчишкой у заводчика в Чите, тот специализировался на переработке молока, с ним и ушёл в Маньчжурию, в тридцатые годы открыл в Ананси своё дело, тоже молочного направления.
Миша пономарил около двух лет. Всё закончилось в пасхальную седмицу сорок третьего года. Прибежал домой с полными карманами крашеных яиц, а мама плачет. Да горько. И прислуга Агния, полукровка (отец – китаец, мать – русская), тоже в слезах. Японцы арестовали Мишиного отца и увезли в Цицикар.
– Тюрьма отняла у отца добрую часть жизни, – рассказывал Михаил Максимович в храме перед службой знакомой старушке, соседке по дому, тоже пришла на литургию в тот день. – Шутка ли – столько пыток перенести.
Они сидели на длинной скамье у западной стены церкви. Старушка, слушая Михаила Максимовича, молча кивала головой в белом платочке.
– Мне в прошлом году, – продолжал он рассказывать об отце, – за семьдесят пять перевалило, а он до семидесяти не дотянул. После японской тюрьмы до конца жизни жаловался на головные боли. И нервным стал. Вдруг ни с того ни с сего на ровном месте сорвётся… Потом сам удивляется: с чего понесло? Так-то оптимист был и работящий, как крестьянин, который всё умеет делать в своём хозяйстве. За что бы ни взялся – будь то слесарные или столярные работы… Перестелить полы, отремонтировать мебель, окна, двери, электроприборы – всё мог… До последнего работал в детском садике плотником.
В тот день, двадцать первого августа, Михаил Максимович поминал отца. Ровно тридцать пять лет назад он прилетел в Киев, взял такси, быстро доехали до панельной пятиэтажки, взбежал по лестнице на четвёртый этаж, надавил на кнопку звонка, тот неуместно отозвался задорной мелодией. Накануне Михаил Максимович получил от сестры телеграмму: «Срочно приезжай». Он поехал в аэропорт, взял билет… Отец говорить уже не мог, руки, ноги не действовали. Бесконечно родной человек лежал без движения, но что-то осмысленно изменилось в глазах, когда вошёл сын. Михаил Максимович наклонился, обнял отца за плечи, тот сделал короткое движение головой, прижался щекой к сыну. Попытался поднять руку, обнять и не смог. Михаил Максимович взял его руку, положил себе на плечо. Он всегда удивлялся силе рукопожатия отца. В последний раз виделись за два года до этого. Отец, шутя, как бы говоря: «мы ещё повоюем!», так сжал его пальцы, что Михаил Максимович невольно поморщился. И вот эта рука лежит на плече невесомой плетью. Отец сделал движение головой в знак одобрения, дескать, правильно, я хотел обнять тебя. В нём – угасающем, умирающем – последней искрой земной жизни было проявление любви к сыну.
За два года до этого в минуту откровенности признался:
– Неправильно, Миша, что мы далеко друг от друга, иногда так тянет побыть с тобой, посидеть рядом… Жизнь уходит…
И вот отец лежит беспомощный, измождённый болезнью… Вдруг он дёрнулся…
– Закрой ему глаза, – услышал Михаил Максимович голос сестры…
Два года назад отец отдал ему икону Казанской Божьей Матери. Ту самую, что была у них в Ананси. Спросил:
– Помнишь, на выезде из Маньчжурии едва образа не отобрали?
На станции Отпор советский пограничник, увидев иконы, бросил: «Не положено!» Но отец пошептался с офицером и всё уладил. Михаил Максимович повесил Казанскую в свою спаленку, на восточную стену. По утрам, открыв глаза, первое, что видел – лик Богоматери. Даже если просыпался совсем рано, лик проступал из темноты. Не хочешь, да перекрестишься.
В последние годы, укладываясь на ночь, он брал в постель радиоприёмник, маленький, размером с пачку сигарет. Слушал его перед сном, включал среди ночи, отвлекаясь от бессонницы, нередко бормотание убаюкивало.
Неделю назад вот так же проснулся в пятом часу, поворочался минут двадцать, а потом включил приёмник. Шла беседа с историком, специалистом по Второй мировой войне, он рассказывал о боях на японском театре военных действий. И среди прочего озвучил шокирующую информацию: японцы вырезали печень у пленных американцев и съедали, следуя одному из моральных правил самураев: «Убей пленного, вырежи печень и съешь её – храбрость убитого перейдет к тебе». Пленный перед смертью не должен плакать, иначе печень не годится, какая у слезливого храбрость.
Михаила Максимовича как током шарахнуло: а если Гота-сан, который вёл допросы и пытки, вовсе не шутил, на самом деле мог съесть печень отца. Как-то, вспоминая японские застенки, отец сказал, что Гота однажды похвалил его: «Стойкий ты мужик, Максим, из тебя хороший самурай мог получиться!» И добавил с ехидцей: «Надо вырезать твою печень и съесть!»
Отец долго не хотел рассказывать сыну о японской тюрьме, отшучивался, когда тот настаивал:
– Да что там, всего пятьдесят шесть пыток Гота на мне испробовал. Япошка не один раз хвастался, что в его арсенале с добрую сотню разновидностей пыток наберётся…
Михаилу Максимовичу было под сорок, когда отец, наконец-то, поведал о годах, проведённых в тюрьме, о самурае Готе-сан, зверски пытавшем его.
Готу-сан Михаил Максимович сподобился мальчишкой лицезреть. Отца освободили из тюрьмы в августе сорок пятого, когда советские войска вошли в Маньчжурию. Отец так и не открылся, был ли связан с чекистами до ареста. Офицеры с синими петлицами в сорок пятом часто приезжали к ним в Ананси из Цицикара. Вроде как в гости. Разговаривали, выпивали. Не один раз бывал у них начальник штаба спецчасти подполковник Курочкин, для Миши – дядя Вася, чаще других с визитами заявлялся майор Костров – дядя Дима. Он обещал свозить Мишу в Цицикар и показать тюрьму, где сидел отец, его одиночную камеру в подземелье. Экскурсия в японские застенки не состоялась, зато самурая Готу-сан дядя Дима показал.
Самурай содержался не в той тюрьме, где мучил отца, в другой. Она представляла из себя длинное одноэтажное здание, к которому примыкал чистенький прогулочный дворик, огороженный со всех сторон сеткой, и верх был забран ею. Они подъехали на машине, майор Костров вызвал начальника караула, что-то сказал ему, затем подозвал Мишу. Вдвоём подошли вплотную к сетке.
– Вон тот, что ближе к нам – мучитель твоего отца! – указал дядя Дима.
Вдоль сетки буквально в двух метрах от них шли два японца.
– Гота-сан, – окликнул майор, – смотри, вот сын Чулкова, помнишь такого зэка?
Японец дёрнул голову в их сторону. Лицо бесстрастное, неподвижное, безразличное ко всему.
– Плюнь ему в морду, – громко, чтобы слышал самурай, сказал майор, – два года, сволочь узкоглазая, изгалялся над отцом.
Гота отвернулся, направился медленным шагом к дальнему концу двора, возвращаясь, посмотрел в сторону зрителей. Взгляд всё такой же отрешённый, безучастный…
Майор Костров любил пошутить, побалагурить, держался рубахой-парнем. Навряд ли на самом деле был таким, думал много позже Михаил Максимович, как-никак чекист-контрразведчик. Отца Миши майор звал «батькой», так как сам по отчеству был Максимович. Однажды при Мише спросил:
– Батька, не хочешь с Готой побалакать? Предложить ему на выбор «чайник Шипунова» или икры подрезать да круто посолить…
Отец, он сидел в кресле, подался навстречу неожиданному вопросу и замер, уставившись в угол, будто решая: как быть? Возможно, в тюрьме, отходя от очередной пытки, харкая кровью, преодолевая тягучую боль, убаюкивая её (рассказывал, что от приступов невыносимой головной боли терял сознание), тешил себя мечтой оказаться на месте истязателя… И вот представилась возможность сказать: «Ну что, Гота, взяла твоя?» Отец однажды бросил японцу:
– А если сам в плену окажешься?
На что прозвучало высокомерное:
– Я – самурай! Плен не моя участь!
Может, отец хотел позлорадствовать в отместку за все издевательства, бросить ему в лицо обидное: «Что, Гота-сан, кишка тонка оказалась! Струсил, побоялся боли, как наступил момент харакири?»
– Батька, что молчишь? – переспросил чекист. – Устроить встречу? Хотя бы в морду узкоглазую плюнешь!
Отец мотнул головой:
– Нет, Дима, не хочу. Бог с ним. Каждому своё.
Отец рассказывал, по-русски Гота говорил чистейше. Без малейшего акцента. Первым признаком предстоящих пыток было ироничное настроение. Шуточки с издёвкой:
– Вот ты русский, а Лермонтова знаешь: «Сижу за решёткой в темнице сырой, вскормлённый в неволе орёл молодой?»
У отца внутри всё сжималось от тонкогубой улыбочки на жёлтом лице, от тёмной воды в узких глазах.
– Я, японец, знаю, а ты русский вместо того, чтобы книжки умные читать, да стихи учить, шпионил за нами.
С ухмылочкой спросит:
– Хочешь, повторим “чайник Шипунова”?
«Чайник Шипунова» – это соль, молотый красный перец, разведённые в воде. Пытаемого привязывают спиной к лавке и в нос заливают жгучую смесь из чайника. Она тут же разъедает слизистую оболочку носа, попадает в рот, дышать невозможно, захлёбываешься, харкаешь кровью, но японец методично продолжает экзекуцию.
Гота спросит:
– Ну и что? Как насчёт “чайничка”?
Потом с ядом в голосе отвергнет этот вариант:
– Нет, с “чайником” возни много и мокро. Не люблю я сырость разводить. Лучше что-нибудь из классики. Как там у вашего классика Пушкина: «Паду ли я стрелой пронзённый, иль мимо пролетит она, всё благо гения иль сна…» Попронзаем-ка мы тебя для разнообразия…
И вызовет заплечных дел мастера, тот привяжет руки узника и начинает вгонять иголки под ногти. Гота надеялся: не выдержит русский пыток, сломается, начнёт говорить. Арестант всё отрицал, никакие фамилии не называл. Гота мог мучить несколько дней кряду, потом делал перерыв на неделю-две, случалось, месяц не дёргал, но затем снова начинал допросы. Методично искал, чем бы достать упрямца. Специальным устройством сдавливали грудь. Сердце горлом рвётся, дышать нечем. Кажется – всё, смерть пришла, но Гота ослабит зажим, даст отдышаться. Спросит своё:
– Какие сведения советским передавал?
На молчание отца снова отдаст приказ продолжать пытку.
Икры резали бритвой и сыпали в раны соль. Да ещё затягивали бинтом, чтоб лучше разъедала. Или уложит палач на скамью животом, привяжет накрепко, и начинает медленно сдирать со спины кожу деревянным бруском. Без того больно, но это не всё. Любил Гота солить русского. Щедро набросает на спину соли, да ещё заставит придавить тяжёлой доской, чтоб не мог пошевелиться бедняга.
Дом родителей стоял в Ананси рядом с домом терпимости, в котором японки обслуживали офицеров. Заведение выходило в их двор глухой стеной.
– Помнишь, нет, – рассказывал о своих злоключениях в тюрьме отец, – в стене дома терпимости прорубили два окошечка? Не просто так, а вести наблюдение за нашим домом. Японцы фиксировали всех, кто входил и выходил. Гота на допросе заглядывал в бумажки на столе и допытывался, называя конкретные фамилии, зачем тот-то заходил? С какой целью этот просидел два часа? Но я, сын, знай, никого не оговорил.
Окошечки Михаил Максимович помнил. Их прорубили за каких-то полдня. И потом не раз он замечал движение за стёклами.
– Слежка не зря была? – спросил Михаил Максимович отца.
Отец улыбнулся в ответ. Так и не сказал, что работал на советскую сторону. Когда вышел из тюрьмы, к ним домой в Ананси неоднократно приезжали военные врачи из Цицикара. Обследовали вчерашнего узника, давали лекарства. Первое время отец пугал Мишу затравленным видом, странными выходками. Сидит в кресле ноги под себя (в тюрьме разрешалось сидеть только так), курит, Миша зайдёт, он испуганно поднимет подлокотник, спрячет сигарету. Вздрагивал на любой стук. Или вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать нехорошим смехом. Только месяца через два более менее успокоился…
Литургия шла в южном приделе храма. Священник чем-то походил на отца Александра из Ананси, служил обстоятельно, Евангелие не читал, а торжественно пел речитативом. Мама когда-то сердечно наставляла маленького сына:
– Когда священник читает Евангелие, это сам Иисус Христос нам проповедует, слушай внимательно, нельзя пропускать ни одного слова. Слушай и запоминай.
Могла потом спросить, о чём было сегодня Евангелие?
Старушка-соседка, с которой стоял рядом в храме, причастилась и после проповеди ушла. Михаил Максимович остался на панихиду. Служили её в северном приделе, у кануна. Михаил Максимович стоял с зажжённой свечой в левой руке. Снова вспомнилось услышанное по радио про японцев, что вырезали печень у пленных. Отец-то был уверен: Гота-сан в своей манере змеино шутил, бросая: «Надо бы вырезать твою печень и съесть». Но кто его знает, что у нехристя зрело в голове?.. Ведь русский переиграл в стойкости самодовольного самурая… Оказался сильнее…
Блудница
Рассказ
Мария Афанасьевна Липова каламбурила:
– Зажилась я на этом свете. Шутка ли – девятый десяток дотаптываю!
Последние два года «топтаться» делалось труднее и труднее. В основном – по квартире. Из самых дальних маршрутов – магазин, да ещё стала наведываться в церковь Иоанна Предтечи, что недавно освятили на соседней улице. Храм крохотный, гроб при отпевании поставят перед амвоном, и всего-то метра два пространства от изголовья до входных дверей.
В церковь Мария Афанасьевна отправлялась не на службы, а к Надежде Петровне, старушке, что работала в свечной лавке. Относительно Марии Афанасьевны Надежда Петровна – молодка, всего-то семьдесят пятый год. Ну да это так, к слову. В будний день мало кто из горожан отвлекался от повседневных забот и заглядывал в храм Божий, старушки наговорятся вдоволь, навздыхаются, а где и набежавшую слезу утрут.
Судьбы у Марии Афанасьевны и Надежды Петровны складывались по-разному, но сходились в одном – обе росли сиротами.
– Родители у меня, конечно, имелись, как без них, а фактически не было, – сетовала Мария Афанасьевна. – И ни одной фотографии. Почему не сделали портреты? Достала бы сейчас, посмотрела на маму и папу… Отца-то помню, а маму в глаза не видела, при родах умерла… Живу, могилок родителей не знаю. У меня вон сколько альбомов, фотокарточек. Умру, так хоть портрет есть. Можно взглянуть, вспомнить: мама была, бабушка…
– У меня есть фотографии, – поддерживала тему Надежда Петровна. – Одна, самая старая, с подписью по низу: «Ташкент. 1929 год. Съезд пожарных». Папа сбоку стоит, рядовой участник. А другая – он в белом кителе в самом центре группы пожарных сидит, это папа уже начальник. Подписи нет, но, думаю, во Владивостоке. Мы там жили до войны.
Старушки больше слушали сами себя. Сердца теплели от воспоминаний, были они зачастую горькими, но так уж устроен человек: горькие, да свои.
Накануне войны отец Надежды Петровны перевёз семью в Курскую область, в родную деревню. Купил хороший дом. Хоть и крестьянствовал только в детстве (судьба рано забросила в город), был человеком крестьянской жилки, для которого свой дом – центр вселенной. Имеешь его, значит, душа на месте, жизнь на своей орбите. Отец Надежды Петровны, обретя дом, собрался было кое-что перестроить под себя, да тут война… И так она стремительно нагрянула в их края, что во всеобщей сумятице многих мужиков даже мобилизовать не успели, объявить-то о мобилизации объявили, а провести её должным порядком не получилось. Кого-то успели забрать, а кто-то остался.
Стояла деревня на отшибе, в глухом месте, немцы, конечно, знали о существовании данного населённого пункта, но деятельного интереса почти год не проявляли, только в сорок втором основательно оккупировали. До этого наездами контроль осуществляли. Край не отличался партизанским противостоянием, поэтому немцы не зверствовали. Но ранней весной сорок третьего занервничали. Слышнее и слышнее делалась канонада на востоке. Положение на фронте менялось не в пользу вермахта. Тут и ума особого не надо для понимания: сегодняшние с виду забитые деревенские «русиш швайн» – мужики да парни – как только Красная армия займёт деревню, станут её бойцами, и получай, фашист, по полной от советского бойца. Пошёл слух по деревне: всех мужчин немцы расстреляют.
– У тётки в огороде стоял стог сена, под ним яма, – рассказывала Надежда Петровна, – в ней прятался мой двоюродный брат, его немцы так и не нашли, цел остался, потом воевал, хорошо воевал – с орденом, медалями вернулся с войны. Кто-то в лес убегал. А человек пятнадцать мужиков немцы на берег речки вывели и расстреляли. Нас немцы, как заняли деревню, из дома выгнали. Дом просторный, тёплый, один из лучших в деревне, немцы его заселили, а мы ютились у бабушки. Отец тоже прятался, а когда немцы стали уходить, не выдержал… Побежал к дому… Зачем? То ли боялся – как бы не подожгли, или надеялся, они уже уехали… Не знаю… Мы с мамой и братом Петей, он на пять лет старше, когда пришли туда – ворота нараспашку, двери дома тоже. Мама начала звать папу… Петя в дом забежал, а я смотрю: куча хвороста лежит и парок поднимается. Я-то что? Ещё дитё без понятия, шести не исполнилось, маме кричу: «Дым, дым!» Разбросали хворост, а под ним папа… Ещё тёплый… Осенью мама умерла…
Надежда Петровна вышла из-за прилавка свечной лавки, погасила догорающую свечу на подсвечнике, перекрестилась, поправила соседние. Белой салфеткой прошлась по иконе на аналое. Сегодня там лежала «Всех скорбящих радость». Перекрестилась на алтарь.
На отца Марии Афанасьевны, Афоню Романова, пограничники имели большой зуб. Он издевался над их бдительностью, то и дело обводил вокруг пальца, мотался за здорово живёшь через Аргунь в Китай и обратно в Забайкалье, раз за разом переправляя за речку односельчан. Стражи границы охотились за бесстрашным казаком. А он неожиданно появлялся в Кайластуе, из-под носа у пограничников уходил. Каждый раз осведомители запаздывали с информацией. Был ли Афоня связан с казаками-семёновцами в Маньчжурии, как подозревали пограничники, это сейчас уже никто не скажет. Рисковый был казак. Само собой, имелись у него «за речкой» связи, свои люди, которые способствовали переходу беглецов с советского берега на китайский, давали краткий приют, помогали уходить вглубь Маньчжурии.
Первыми из своей семьи он перевёз в Маньчжурию, в Хайлар, двух родных сестёр, а потом пришёл за детьми.
– Хорошо помню, – делилась Мария Афанасьевна воспоминаниями с Надеждой Петровной, – как отец ночью нас с братом забирал. Шёл, наверное, год двадцать девятый, мне семь лет где-то. У меня было двое сапог. Одни на повседневку – бегать, играть, а вторые – красивые, праздничные – отец из Китая привёз. Он торопит: «Не копайтесь! Надо быстро!» Бабушка одевала меня полусонную, один сапог хороший обула, а второй попался под руку худой. Наверное, видела уже плохо. С крыльца спустились, а только дождь прошёл. Ночь тёмная. Я в лужицу наступила. Говорю отцу: «Папа, у меня нога мокрая». – «Как мокрая? У тебя сапоги новые». – «Нет, мокрая». Уже на китайском берегу поняли, что один сапог из старой пары. Лошадь у отца была Белоножка, передняя нога, как в белом носочке, на ней втроём верхом по броду ехали, впереди брат, я посередине, а сзади отец меня держит. С нами бежала ещё одна семья – Ефима Павловича Романова, родственники дальние. Их пятеро человек, один грудной, они на телеге. Та, ещё на советской стороне, перевернулась. Ребятишки заплакали, на них шикают: замолчите, не кричите, не дай Бог, пограничники услышат! На китайском берегу в фанзу отец завёл. Китаянки хорошие, одна увидела меня, заплакала, что-то лопочет, потом достала кусковой сахар, мне и брату даёт… Тёти жили в Хайларе. И мы туда поехали.
В церковь вошёл мужчина лет пятидесяти. Уверенный, громкий. Вошёл, как в музей. Показывая рукой на иконы иконостаса начал спрашивать:
– Это кто? А это? Бог?
Надежда Петровна ровным голосом объясняла.
– А это что за застолье? – поднял руку в направлении «Тайной вечери».
Потом спросил, как у продавца в магазине:
– А чудотворец у вас есть? Этот, как его…
– Никола Угодник, наверное, – сказала Надежда Петровна.
– Ну…
Надежда Петровна подвела к иконе, что висела на боковой стене. Мужчина посмотрел сначала издалека, затем поднёс лицо вплотную к изображению святого, что-то пытаясь разглядеть.
Надежда Петровна спросила:
– Свечи будете брать?
– Не нищие мы, возьму.
Выбрал большую, спросил, куда «втыкать». Поставил «о здравии», не перекрестился.
– Сколько раз плакала в детстве по ночам, – вернулась к своим воспоминаниям Мария Афанасьевна, когда ушёл мужчина, – да и сейчас иногда лежу, бессонница, а слёзы сами текут: зачем отец пошёл тогда? Зачем? Бывает, как разговариваю с ним, спрашиваю: «Папа, ну почему, почему ты так сделал? Обо мне не подумал?» Не попадись он пограничникам, совсем другая у меня была бы жизнь! Совсем! Разговариваю с ним и плачу…
– Я и сама не один раз ревела, – вступила в разговор Надежда Петровна, – особенно девчонкой: ну, почему отец заторопился раньше времени в наш двор. Да чёрт с ним, прости меня, Господи, с этим домом! Он так им дорожил! Гордился – свой дом! Ну, сожгли бы немцы. И пусть. Зато отец жив остался. И мама не умерла… Да на всё Божья воля…
Последний день с отцом навсегда врезался в память Марии Афанасьевны. Отобедав, было это в Хайларе, он собрался и ушёл, она осталась с тётей и братом. Под вечер отец вернулся верхом на Белоножке, заскочил в дом, очень торопился, взял сумку, была у него кожаная, на ремне… Весёлый… Сколько помнила его Мария Афанасьевна, всегда весёлый. Белозубая улыбка, чёрный густой чуб.
– Дней на пять уеду, – подмигнул и попросил дочь, – перекрести на дорожку.
У Марии не получилось. Креститься умела, но вот крестить другого…
– Не так, наоборот, – заулыбался отец, – вернусь, научу.
Пограничники и на этот раз не нашли бы. Узнав про облаву, Афоня спрятался в подполье у троюродного брата, что жил в соседнем доме. У того было два лаза в подполье, второй – тайный – в углу, на нём сундук стоял. За этим лазом была не сообщающаяся с подпольем нора. Афоня нырнул туда. Пограничники потоптались по дому, осмотрели по команде старшего подполье. Уже уходили, а хозяйка возьми и шепни им:

