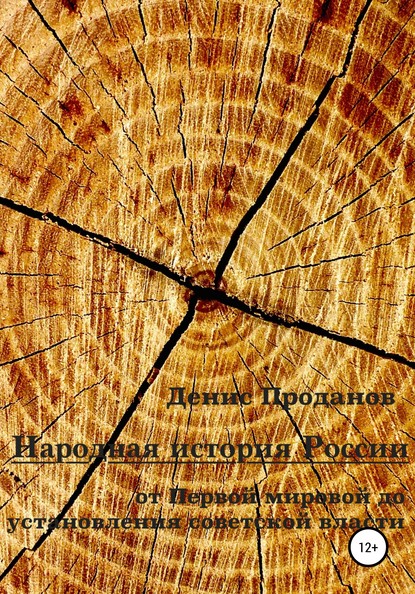 Полная версия
Полная версияНародная история России. От Первой мировой до установления советской власти
Ещё одну иллюстрацию произвола предоставил студент Н. А. Авенариус. Летом 1918 года ему запомнилась сценка в трамвае, ставшая знаковой для того времени. Авенариус описал, как в Москве, на площадке, стараясь протиснуться к выходу, скромно одетый человек обратился к напирающему на него солдату: „Господин, подвиньтесь, пожалуйста! Солдат хватает его одной рукой за воротник, и, тыча ему кулак в нос, кричит: – Не все здесь господа, есть и порядочные люди, – и отшвыривает от себя несчастного. Кругом солдаты гогочут, а публика, как бы не видя происходящего, виновато молчит. Чувствуешь, как наступает царство хама.“2681
А вот и другой пример. Студентка Одесской консерватории Е. И. Лакиер вспоминала, как 22 января 1918 года после прихода большевиков она стала свидетельницей возмутительного случая в самом центре города.2682
Перед Лакиер шли три девицы легкого поведения, накрашенные и нахальные. Современница записала в дневнике, как на углу показалась очень хорошо одетая дама в котиковой шубе, молодая и очень привлекательная: „Когда эти девицы поравнялись с ней, то средняя, ужасная пожилая женщина с гнилыми зубами, воскликнула: – Эх ты, сука! – и плюнула ей в лицо. Та остолбенела от неожиданности и омерзения и беспомощно огляделась вокруг, точно ища помощи, отирая себе лицо платком. А девицы пошли дальше, визгливо и вызывающе хохоча.“2683
Под воздействием классовой риторики и кампаний дискредитации подобные взрывы злобы и ненависти к „бывшим“ происходили очень часто. Как заметил литератор А. М. Ремизов, видят сучок у соседа в оке, а в собственном бревна не чувствуют.2684
Писатель К. И. Чуковский в разговоре со знакомым прозаиком однажды услышал от него, как тот возвращался домой и увидел в окне свет. Заглянув в щель, тот увидел человека, сидевшего в комнате и чинившего печатную машинку „Ремингтон“.2685
Мужчина этот был погружён в свою работу, а лицо его было освещено. Подошедший к прохожему бородатый милиционер так же с любопытством заглянул в окно. И вдруг со злостью произнёс: – Сволочи! Чего придумали! Мало им писать, как все люди, нет, им и тут машина нужна. Сволочи!2686
Советская власть постоянно нагнетала истерию, указывая на предполагаемых виновников всех бед. В печати она грозила стереть буржуазию „с лица земли“.2687 Даже ответственность за свой расстрел демонстраций в поддержку Учредительного Собрания большевики попытались свалить на имущие классы.2688 Свидетелям запомнились свирепые и кровожадные обвинения „буржуев“ во всех грехах.2689
Хулиганы и подонки общества с удовольствием следовали по стопам власти и отыгрывались на беззащитных. Интеллигент Н. Плешко вспоминал, как после прихода большевиков в Ровно сидеть вечером при лампе, в комнате, обращенной окнами на улицу, было немыслимо, ибо каждую минуту могла залететь „на огонёк“ пуля какого-нибудь пьяного товарища, забавлявшегося страхом „буржуя“.2690
Ещё один пример будничного террора предоставил бывший чиновник А. Л. Окнинский. После Октября этот человек в одночасье потерял все ценности и деньги. В результате дороговизны Окнинский был вынужден уехать с семьёй из Петроградской губернии.
В своих воспоминаниях Окнинский описал случай, когда ехал со своей дочерью на поезде из Петрограда в Москву. На станции Чудово контроллёр потребовал у Окнинского высадиться и взять доплату на стоимость билетов между II и III классом. Дочь его пошла к кассе, у которой стояла длинная очередь.2691
Стоявший у кассы охранник разрешил дочери Окнинского взять дополнительные билеты без очереди. Как только та отошла от окошка и направилась к своему вагону, от очереди отделилось несколько человек и бросились за ней с криками „убить проклятую буржуйку! Она получила билет не в очередь!“2692
Дочь Окнинского со всех сил побежала к вагону. Едва она успела вскочить на его площадку, как её преследователи достигли вагона. Но тут охранник, который ей указал, как пройти к кассе, стал их отгонять, угрожая штыком. Они отошли, скверно ругаясь и грозя кулаками в сторону вагона. В результате дочь Окнинского вбежала в отделение, запыхавшаяся, вся в слезах, и долго не могла успокоиться.2693
Ещё одним результатом классовой травли стал погром буржуазной собственности. Так в 1918 году, перед отступлением Красной гвардии из Финляндии, солдаты стали заниматься вандализмом. Они загаживали дачи в посёлках на побережье Финского залива.2694 Особенно печально ситуация складывалась в Куоккале. Куоккала, впоследствии переименованная в Репино, была известным курортом российской интеллигенции.2695
Куоккала имела статус автономного княжества во времена, когда Великое княжество Финляндское было подчинено диктату Российской империи. С начала ХХ века до революции Куоккала была уютным, либеральным уголком. Туда русская культурная богема приезжала отдохнуть от политической реакции и встретиться с друзьями.2696 Теперь же этот курорт стал объектом ненависти к „буржуйским“ классам.
В своих мемуарах художник Юрий Анненков вспоминал, как пробрался в Куоккалу взглянуть на свой дом. Стояла зима 1918 года, и его дом был окончательно разгромлен. Крыша была совершенно разворочена, стёкла выбиты, а дверь вырвана. По словам Анненкова, обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. Стены были окрашены замёрзшими струями мочи с пометками углём. Пометки указывали, кому из красногвардейцев удалось поставить рекорд высоты.2697
Вырванная из потолка висячая лампа была втоптана в кучу экскрементов. Возле лампы была записка со словами: „Спасибо тебе за лампу, буржуй, хорошо нам светила.“2698 Половицы были разщеплены топором, обои сорваны и пробиты пулями, а сервизы разбиты. Всё – от металлической посуды – сковородок, кастрюль, чайников – до лестницы, верхних этажей, матрасов, стульев и ящиков столов было покрыто испражнениями. Их солдаты умудрялись швырять даже в потолок.2699
В то время подобных случаев вандализма и погрома собственности было огромное количество. Иначе, как классовой вендеттой подобные случаи назвать было нельзя. Возникал вопрос: чем провинился Юрий Анненков, этот интеллигент, талантливый художник и мемуарист? Чем заслужил он и его коллеги такое гнусное отношение? Разумеется, ничем. Большинство красногвардейцев ни об Анненкове, ни о других деятелях культуры даже не слышали. Но как представители интеллигенции, как „буржуи“ те для них были врагами. А с врагами любые методы были дозволены.
Очередное подтверждение этого тезиса представил поэт А. Б. Мариенгоф. В своём документальном романе о 1918 годе он описал, как рабочие национализированной типографии „Фиат Люкс“ отказались работать в холоде. Тогда районный Совет разрешил им разобрать на дрова большой соседний деревянный дом купца Скоровертова.2700
Наряду с конфискацией имущества, выселением, уплотнением и реквизицией банковских средств диктатура ввела систему „классовых пайков“. Новая система распределения продовольствия была введена в Петрограде летом 1918 года, на волне усиливавшегося голода и нагнетаемого психоза.2701
В Гражданскую войну Петроград стал пионером в деле классовой войны с буржуазией на продовольственном фронте.2702 Всё население Петрограда с 1 июля было поделено на 4 категории: 1-я (рабочие заводов, фабрик, транспорта, чернорабочие, пожарные, почтальоны, дворники) – 657 517 человек; 2-я (мастера, ремесленники, учителя, санитары, прислуга, пенсионеры) – 659 437 человек; 3-я („лица интеллигентных и свободных профессий“: инженеры, врачи, юристы, работники искусств, литераторы, церковнослужители) – 194 462 человека; 4-я („буржуазия“) – 17 732 человека.2703
Система разделения жителей на продовольственные категории была не только дискриминационной, но и глубоко безнравственной. Первые категории получающих были искусственно сделаны привилегированными. Последние же две были объявлены нежелательными и обрекались на голод. Несправедливость в продовольственном распределении была скандальной. Пропорциональное отношение среди категорий было 8, 4, 2, 1.2704
Это означало, что 1-й категории населения полагался паек вдвое больше, чем 2-й, в 4 раза больше, чем 3-й и в 8 раз больше, чем 4-й. Установив распределение хлеба „по категориям“, диктатор Петрограда Г. Е. Зиновьев с издёвкой сказал в своей речи о представителях буржуазии: „Мы сделали это для того, чтобы они не забыли запаха хлеба.“2705
Детей и подростков обслуживали либо по карточке специального питания, либо по возрастному признаку относили ко 2-й или 3-й категории классового пайка.2706 Это означало, что дети также оказались косвенными жертвами карточной системы. Особенно от классового распределения пострадали дети „буржуев“ и интеллигенции. Их родители получали гораздо меньше продуктов, чем остальные.
Историк С. М. Дубнов писал в своих воспоминаниях, что основным законом коммуны в пору голода и разрухи было классовое деление жителей по отношению к праву на ежедневный хлебный паёк: выдавали приблизительно фунт хлеба рабочим и красноармейцам и одну четверть или восьмую фунта – „буржуям“ и интеллигенции, не состоявшим на службе у большевиков.2707
В первую очередь продукты выдавались 1-й и 2-й категориям. Затем – 3-й. И лишь если что-либо оставалось в наличии, то тогда продукты выдавали и 4-й категории. В результате первые две категории населения были едва сыты. 3-я категория сильно недоедала, а 4-я была вынуждена голодать. Классовый паёк распространялся не только на продовольствие, но и на мануфактуру, и на все предметы домашнего обихода.2708
В случае праздников и торжеств обладателей карточек 4-й категории также обделяли. Показательным примером продовольственной дискриминации служит празднование 1-й годовщины Октябрьского переворота 7 ноября 1918 года. В официальной прессе писали, что в день праздника гражданам кроме обычной порции в ¼ или ½ фунта чёрного хлеба выдадут и по белой булке.2709
Как вспоминал публицист А. С. Изгоев, в газетах был помещён ряд противоречивых сообщений о том, граждане каких категорий получат эту булку: „Сначала сообщалось, что она будет выдана только едокам 1-й и 2-й категории. Затем прибавили, что и гражданам третьей категории булка будет выдана, только позже и из муки худшего качества. 'Буржуи 4-й категории булки не получат. Солдатам она будет выдаваться в казармах'.“2710
Эта дополнительная булка может показаться незначительной деталью. Но она ей не была. В условиях голода, дороговизны и лишений всё, связанное с продовольствием, было чрезвычайно важно для выживания. Не зря Изгоев писал, что советские граждане уже в то время в такой мере были ошарашены свалившимся на их голову социалистическим строительством и голодовкой, что об этой „белой булке“ говорили днями, старательно комментируя все сведения советской печати.2711
За Петроградом с 1 сентября 1918 года классовые пайки были введены в Москве, в пропорции 4, 3, 2, 1. После опыта двух столичных центров новая система распределения стала распространяться Наркомпродом на всю страну.2712
Позже, в декабре 1918 года продовольственная система четырёх категорий была преобразована в систему из трёх категорий в пропорции 4, 2, 1.2713 Но сути дела это не изменило. Две последних нежеланных группы попросту объединили в одну.
На верху классовой иерархии по-прежнему стояли комиссары, ответственные работники советских учреждений, чины ВЧК, вооружённой охраны и привилегированные рабочие, связанные с казёнными фабзавкомами и профсоюзами. В середине располагались служащие по найму, учащиеся, несовершеннолетние от 12 до 16 лет и женщины, ведущие хозяйство без прислуги не менее, чем на три члена семьи. А внизу классовой иерархии находились лица, пользовавшиеся наёмным трудом, жившие на доходы с капиталов и предприятий, лица свободных профессий вроде юристов, вольнопрактикующих врачей, литераторов и всех, не подходивших к первым двум категориям.2714
Инструментализация голода против классовых врагов была далеко не единственным методом власти. Она была лишь самой эффективной. Неслучайно коммунист А. Ф. Ильин-Женевский назвал хлебные и продуктовые карточки „путеводной нитью“ в вопросе определения буржуазии.2715
Система классового распределения помогла диктатуре отслеживать „буржуев“ и выгонять владельцев карточек 3-й и 4-й категории на принудительные работы.2716 Система классового пайка также помогла советской власти превратить население в своего сообщника в остракизме „бывших“. Это особенно хорошо видно на примере реквизиций шуб у буржуазии.
В октябре 1918 года Бюро по распределению предметов в Петрограде допустило беспрепятственную выемку меховых вещей, сданным на хранение крупным меховым фирмам и ломбардам. Человек, ранее сдавший шубу в залог на хранение, не мог её больше получить вследствие запрета. Коммунистическая диктатура решила отдать чужие шубы бедным слоям.2717
В „Петроградской правде“ была опубликована объяснительная заметка. Читателей информировали, что обладателям продовольственных карточек 1-й и 2-й категории нужно было их заверить в комитете домовой бедноты. После этого заявители могли пойти в ломбард и бесплатно получить дорогую шубу какого-нибудь „буржуя“. С одной стороны эта мера была ударом по „заматерелой“ буржуазии, которой не давали забрать свою одежду и заставляли мёрзнуть зимой. С другой – бедным слоям бросали подачку, возможность поживиться за чужой счёт.2718
Несмотря на холод больше всего имущие классы страдали от голода. В некоторых регионах вроде Карелии хлебный паек был сокращён до 50 граммов. И даже такой голодный паёк выдавался нерегулярно.2719 „Буржуи“ и „бывшие“ становились жертвами голода в первую очередь. Библиотекарша Екатерина Эйгес вспоминала осень 1919 года и то, как после дневной смены ей приходилось ходить на общественные работы.2720
Современнице также запомнился маленький хлебный паек, за которым надо было идти далеко в подвал и смотреть, как его взвешивают, потом делить так, чтобы хватило на целый день, поскольку к обеду хлеба не давали. Эйгес писала, что обедала она на службе: „Говорили, что на первое – вода с капустой, на второе – капуста с водой. Иногда доставала кусочек сахара. А ведь энергии надо было много. Кроме работы в библиотеке ездили на грузовиках на станцию железной дороги разгружать дрова, убирать.“2721
В худшие дни паёк низшей категории был величиной не более двух сложенных вместе спичечных коробков. Впрочем, как отметила княжнa Е. А. Мещерская, даже этот хлеб выдавали не всем. Eё матери, княгине, и ей никакого хлеба не полагалось.2722
По выражению современницы, слово „лишенцы“ тогда еще не придумали. Мещерская писала: „Нас просто называли 'чуждым элементом' или еще того хуже – 'классовыми врагами'. По этой же причине нас и на работу не принимали. Нас 'не узнавали' на улице наши знакомые, стыдливо отводя от нас свой взгляд. Ни на какой приют у своих друзей мы не могли рассчитывать.“2723
Признание Мещерской абсолютно достоверно. Представителям титулованной аристократии в определённом смысле приходилось хуже всего. Их везде узнавали. Громкие фамилии выдавали своих владельцев.2724 Из-за страха репрессий большинство людей стало избегать бывших князей, баронов и дворян. К ним относились так, будто они были неприкасаемыми.
Бывший дворянин В. П. Аничков вспоминал, что когда двоюродный брат бывшего императора Великий князь Сергей Михайлович искал квартиру в Екатеринбурге, никто из граждан ему комнату не сдавал из опасения репрессий со стороны Совдепа. Лишь Аничков с риском для себя отважился помочь нуждающемуся.2725
Классовое расслоение в России заставило многих переосмыслить своё место в новом, биполярном мире. Итогом преследования буржуазии стало то, что люди, не задумавшиеся о своём классе и статусе в обществе, вдруг осознали, что класс этот закрепощает их, играя роль невидимой тюрьмы.
Библиотекарша М. И. Рудомино из Саратова призналась, как впервые почувствовала, что она не принадлежит ни к тем и ни к другим классам. По словам Рудомино, она не была буржуазией, потому что её родители давно умерли, но вместе с тем она и не была пролетарием, хоть и работала по найму, но у неё было аристократическое происхождение, интеллигентный вид и не было знакомых среди рабочего класса. Все подружки Рудомино были наоборот из буржуазии и дворян. Она писала: „Насильственное деление людей вызывало у меня протест против советской власти.“2726
У многих других насильственное деление людей вызывало такой же протест в силу его противоестественности и бесчеловечности. Как и во времена крепостничества, правительство вешало на людей бирки класса, подавляя и дегуманизируя их. Классовая стигматизация торжествовала.
По словам одного современника, „буржуй“ был вообще существом, не пользовавшимся прямой защитой закона: „В этом же административном произволе заключалась, как известно, сущность и русского законодательства о евреях.“2727
Атака на интеллигенцию, на „бывших“ и на призрачные остатки буржуазии, действительно, стала во многом напоминать дискриминаницию евреев в Российской империи. По словам одного современника, „буржуи“ не могли быть председателями домовых комитетов, а в члены комитета допускались лишь по проценту. Позже приёмы в средние и высшие учебные заведения также стали проходить по процентной норме.2728
В трамваях „бывших“ и „буржуев“ стали прогонять с первой площадки. Доступ на неё стал негласной прерогативой пролетариата. Профессор Р. Донской вспоминал, как о том, что он буржуй, а не пролетарий он впервые узнал на трамвае, вскоре после большевистского переворота.2729
Стоило Донскому отправиться на лекцию и влезть в трамвай со стенными таблицами, препаратами и диапозитивами, как он услышал озлобленный крик вожатого „ишь, буржуй, нагрузился! Недощупались ещё до тебя!“ Донской попытался объяснить, кто он такой и куда едет. Вожатый посоветовал пожилому профессору ездить на подножке. Вскоре Донского вообще прогнали в конец, подальше с площадки, закреплённой за пролетариатом. Доктор медицины отметил, что стал ездить на лекции, повиснув на подножках или стоя на буфере.2730
В вопросе об имущих класах никого не интересовало, честен человек или нет, поддерживает ли он революцию, парламентаризм или реакцию, солидарен ли с рабочими или стоит на стороне фабрикантов. Старая сословность только увеличилась. Философ Н. А. Бердяев был вынужден констатировать: „Человек оценивается по внешней, социальной своей оболочке, а не по внутренним, духовным своим качествам.“2731
Будни РСФСР стали до боли напоминать времена самодержавия. Тогда высшие слои смотрели на крестьян и рабочих сверху вниз как на холопов, будто они только для того и были рождены, чтобы безмолвно прислуживать своим хозяевам. При „диктатуре пролетариата“ класс точно так же определял человека. Разница была только в том, что при большевиках классовая дискриминация стала применяться шиворот-навыворот, с точностью до наоборот.
Классовая нетерпимость РКП(б) расколола российское общество напополам. Представители бывших привилегированных классов стали испытывать страх за свою жизнь и жизнь своих близких. Им из года в год приходилось скрывать своё прошлое.2732
Мемуаристка Е. А. Мещерская, имеющая несчастье родиться княжной, испытала все прелести новой политики на собственной шкуре. Мещерская в годы „военного коммунизма“ была подростком. Но она прекрасно запомнила чувство унижения и статус гражданина второго, даже третьего сорта, которыми власти наградили её семью.2733
Несмотря то, что людей, на которых навесили штамп „бывших“ и „господ“ ежедневно притесняли, унижали и лишали гражданских прав, те не только не мстили, но вели себя на удивление покорно. Единичные случаи протеста были, но они были скорее исключениями.2734
Многие относились стоически даже к принудительным работам и искренне пытаясь принести пользу стране, переживавшей глубочайший кризис. Это требовало больших усилий и выдержки. Супруга князя М. Д. Гагарина призналась в дневнике: „Ужасно тяжело чувствовать себя окруженными со всех сторон врагами, когда никому из них зла не сделал!“2735
Несмотря на индивидуальные качества и заслуги того или иного лица огульное преследование „слуг реакции“ всегда брало верх. В обществе, где на стенах пестрели плакаты „Долой буржуев!“ и „Дисциплина и труд – буржуя перетрут!“, иначе и быть не могло.2736
Знаком времени стала карикатура А. Александрова под названием „Исход“. Эта карикатура изображала движущуюся толпу толстых, шикарно одетых „буржуев“. Надпись говорила: „Буржуи всех стран, соединяйтесь и… убирайтесь!“2737 Показательно, что эта карикатура была опубликована в сатирическом журнале со зловещим названием „Гильотина“.
Обилие подобных плакатов, обращений и язвительных эпиграмм было невероятным. Они буквально наводнили РСФСР. Их развешивали повсюду: в бюро, на заборах и на стенах домов. Типичным был такой плакат: два рабочих крутят пресс, а под прессом лежит раздавленный буржуй, изо рта которого и из зада лентами лезут золотые монеты.2738
Благодаря пропаганде презрительное отношение к „буржуям“ мгновенно проникло в повседневный советский быт и стало неотъемлемой частью культуры. Неустанное бичевание „паразитического класса“ велось в газетах, журналах, брошюрах, в сатире, на публичных лекциях, на митингах и демонстрациях, в Советах, клубах и на театральных подмостках. Окна Российского телеграфного агентства (РОСТА) и Главполитпросвета со стихами В. В. Маяковского и других поэтов захватили воображение миллионов. Стихи про „буржуев“ Демьяна Бедного приобрели широкую известность.2739
Поэт Александр Блок оставил о времени, последовавшем за атакой правительства на „буржуев“, бессмертные строки „Двенадцати“ (1918). В них он описывал унылую реальность нового мира: „Стоит буржуй на перекрестке / И в воротник упрятал нос. / А рядом жмется шерстью жесткой / Поджавший хвост паршивый пес. / Стоит буржуй, как пёс голодный, / Стоит безмолвный, как вопрос. / И старый мир, как пёс безродный, / Стоит за ним, поджавши хвост.“2740
Крестовый поход на буржуазию не прекращался ни на минуту. Последствия его проявились даже на праздновании первой годовщины Октябрьского переворота 7 ноября 1918 года. По сообщению прессы, в Москве в 20.00 Красная площадь заполнилась народом: „После речей ораторов над Лобным местом подняли чучело, изображавшее купца-кулака, облили керосином и сожгли. Затем начался фейерверк, после чего публика разошлась.“2741
Во времена тяжелейшего кризиса и бумажного дефицита власть не скупилась на агитматериал против классовых противников. Очевидец А. Л. Окнинский вспоминал, как в Петрограде, в разных местах висели здоровые полотнища кумача и холста, длиной в 10–15 саженей, повешенные в честь первой годовщины Октября. На полотнищах этих был грубо изображен рабочий, бьющий молотком по наковальне, крестьянин с сохой, пролетарий, ударяющий по голове буржуя в цилиндре, и прочее.2742
В народе эта агитация и натравливание одних слоёв на других вызывали только раздражение. Окнинский писал: „Перед этими полотнищами везде стояли бедные и просто одетые женщины и вели разговоры о том, что вот, мол, на какие пустяки тратятся материи, а бедным людям не раздаются и достать из теперь негде вследствие уничтожения частной торговли.“2743
Плакаты антибуржуйской направленности были лишь малой частью поджигательной кампании властей. Та включала в себя целый спектр нападок. Она содержала и злобную риторику официальной печати, и декреты с речами вождей и партийных работников, и внутренние инструкции, которые распространяли в населении ненависть к „осколкам старого режима“.
Обращаясь в практику, агитация имела уродливые последствия. Последствия эти миллионы русских ощутили на себе в форме психологического и физического террора. Как образно выразился врач М. М. Оверк, посаженный в тюрьму и пишущий председателю ревтрибунала, „вы затянули петлю на моей шее, теперь остаётся потянуть за ноги.“2744
Философ Н. А. Бердяев с точностью уловил вектор классового противостояния. Он писал, что русское человечество распалось на две враждебные расы: „Человек 'буржуазный' и человек 'социалистический' объявлены друг для друга волками. Идея класса убила в России идею человека. Русские люди перестали подходить друг к другу, как человек к человеку.“2745
Голод, травля и отсутствие перспектив вело к тому, что многие родовитые семьи были вынуждены покинуть большие города и перебраться в центры поменьше. Князь С. М. Голицин свидетельствовал о целой волне беженцев: „На восток уехали дядя Коля Лопухин и дядя Саша Голицын со своими семьями. На юг уехали дядя Петя Лопухин, дядя Володя (Петрович) Трубецкой, Гагарины. Оболенские, Лермонтовы, Чертковы, Львовы.“2746 Анархистка А. М. Гарасева также вспоминала, как после Октября у них в Рязани на улицах появились новые люди. Это были те, кто бежал из Москвы, Петрограда, из других городов и своих имений в расчете, что здесь их не найдут и не узнают.2747
Гарасева отметила, что с той же целью рязанцы из богатых собственников продавали за бесценок свои дома и покупали маленькие домики на окраинных улицах города: „В таких попытках 'опрощения' встречались и курьезы. Хорошо помню, что когда вечером из приокских лугов возвращалось городское стадо, впереди него шли две великолепные шведские коровы, уведенные из брошенного имения, а рядом с ними шагала их хозяйка, дочь Ермолова, в какой-то куртке, платке и с длинным бичем в руках…“2748



