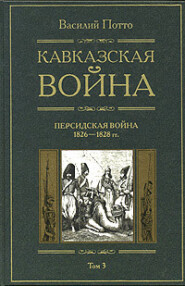 Полная версия
Полная версияКавказская война. Том 3. Персидская война 1826-1828 гг.
То было проявление безумной отваги. Абарань неслась со страшной быстротой, и лошадей относило течением далеко в сторону. Вода доходила до груди казаков, и на поверхности ее виднелись только конские головы да казацкие шапки. Но донцы плыли, все ближе и ближе к берегу. За ними следовала грозная черноморская сила. И вот донцы на берегу. Вся курганская конница разом обрушилась на них. Но подоспела черноморская бригада и дружным ударом “на слом” опрокинула курдов. Тогда началось страшное истребление неприятеля. Волны Аракса поглощали тех, которые пытались переплыть на его правый берег, а казачьи пики уничтожали все, что спасалось по левому берегу. Жестокое преследование продолжалось до самого Сардарь-Абада. Часть неприятельской конницы успела вскочить в крепостные ворота, другая, отбитая в сторону, загнана была в турецкие владения. Никогда еще курды не испытывали такого страшного поражения; вся дорога, на протяжении двадцати пяти верст, была покрыта мертвыми телами, трупами лошадей, разбросанными вещами, седлами, оружием и даже палатками. В руках казаков остались вьюки самого Гассан-хана. Потеря неприятеля была чрезвычайно велика. Сперва ее считали в триста человек, но впоследствии курды сами говорили, что потеряли убитыми и утонувшими более шестисот всадников, и в том числе многих важных лиц из Карадага и Хоя. Знаменитый куртинский старшина, Гуссейн-Ага, и карапапахский владелец, Мурсал, пропали без вести; утонули ли они или были убиты,– но тел их так и не было найдено. В плен взято было пятьдесят три человека – все раненные, и в числе их тесть самого эриванского сардаря. К общему сожалению, сам Гассан-хан ушел невредимым; но была минута, когда он был уже окружен казаками и спасся только благодаря необычайной легкости своего коня. Со стороны русских потеря была совершенно ничтожна, изрублены черноморский сотник Ильяшенко и один казак, да двое черноморцев ранены.
Вестнику об этом славном деле, донскому есаулу Грекову, Паскевич собственноручно навесил орден св. Владимира с бантом.
Разбитый на Занге и Абарани, неутомимый Гассан-хан с необычайной быстротой успел собрать новый пятитысячный конный отряд и стал за Араксом, у Бей-Булаха, в самом центре армянского населения. Уже 14 мая, через три дня после рокового для курдов боя, полковник Гурко видел за Араксом большое число палаток. Армяне, ездившие туда, сообщили, что там стоит с карапапахами Наги-хан, к которому стягивались остатки разбитых войск и новые толпы. Получены были в то же время известия, что Гассан на место Измаил-аги, попавшего в плен, возвел в достоинство айрюкского хана родного брата его, Ибрагима, и поручил его наблюдению дорогу от Эривани вплоть до Амамлов и Беканта. Айрюкцам приказано было опустошить провинции, жечь армянские деревни, истреблять хлеба и убивать тех армян и татар, которые будут заниматься поливкой посевов, вопреки воле сардаря. За каждую русскую голову им обещано было по сто, а за армянскую по пятьдесят рублей. Гассан принимал систему войны самую опасную для блокадного корпуса, и нельзя было не удивляться его энергии и воинской опытности, которыми он, как выражается Паскевич, “далеко превосходил опрометчивые расчеты наследного принца”.
Не довольствуясь действиями на берегах Аракса, Гассан-хан всячески старался сообщать известия о них в самую крепость, чтобы поддержать в гарнизоне бодрость и энергию. В течение двух-трех дней на русских аванпостах пойманы были один за другим семь лазутчиков, пробиравшихся в крепость. А в ночь с 14 на 15 мая пыталась пробиться в нее, между ширванским лагерем и курганом Муханат-Тапа, целая конная партия. Ее отразили тифлисцы.
Гарнизон, со своей стороны, проявлял необычайную деятельность и частыми вылазками старался приковать внимание русских войск к крепости, чтобы тем дать Гассан-хану полную свободу действий. В ночь на 16 мая сарбазы произвели энергичную атаку против Ираклиевой горы; 17 мая вылазка повторилась; а пока карабинеры стойко выдерживали нападение, персидская конница пыталась прорваться из крепости с другой стороны, мимо кургана Муханат-Тапа. Прискакавшие туда казаки разбили ее и гнали до крепостного рва. Одного пленного привезли с собой в лагерь и от него узнали, что партия сопровождала курьера, который должен был передать Гассан-хану какие-то депеши. 19 мая опять тревога – и опять сильная вылазка.
Бенкендорф нашел необходимым усилить пост Муханат-Тапа ротой Тифлисского полка, с одним орудием; но главное внимание его все-таки было обращено за Аракc, откуда доходили недобрые вести. Бежавшие в русский лагерь армяне умоляли его о помощи, говоря, что Гассан-хан угоняет все христианское население внутрь Персии. Отходить далеко от крепости Бенкендорф не имел возможности, тем не менее, вся русская конница приблизилась к Араксу и стала высылать летучие наблюдательные партии.
Распоряжение это оказалось очень удачным и скоро принесло богатые плоды. Так, 21 мая Бенкендорф отрядил четыре сотни черноморцев, под начальством войскового старшины Вержбицкого, для нападения на татар, пришедших с прикрытием из Даралагёза в деревни, лежащие на речке Кара-Булак.
На следующий день, на рассвете, двенадцать человек татар с двадцатью вьючными быками нечаянно наткнулись на сильный пост, высланный этим отрядом. Сопротивление было бесполезно, и татары сдались без выстрела. Вержбицкий, присоединив к себе пост, выступил тогда далее, предполагая впереди близкое присутствие неприятеля. Пройдя не более четырех верст, он нашел конную партию в сто человек, со значительным количеством вьюков, засевшую в овраге. Татары открыли сильный огонь.
Казаки спешились и окружили врагов. Был тут один армянин. Он представил татарам всю бесполезность непосильного сопротивления, и партия положила оружие. Казаки взяли девяносто человек пленных и значительное количество быков.
Вслед за тем открыты были еще две конные партии, каждая по пятьдесят человек; одна стояла около деревни Чадкран, другая шла с вьюками к селению Башкент, лежащему за речкой Кара-Булак. Посланные за ними две сотни казаков не могли догнать уходивших всадников, но им удалось захватить несколько человек в плен и отбить нескольких лошадей и более ста быков, навьюченных пшеницей и разными вещами.
25 мая, будучи в Эчмиадзине, Бенкендорф получил известие, что Гассан-хан, с небольшим конным отрядом, расположился на правом берегу Аракса, против удобнейшего брода, и мешает жителям возвращаться на левый берег в свои селения. Бенкендорф немедленно собрал отряд и на следующий день, в пять часов утра, был уже в деревне Феда, в одной версте от Аракса. Там армяне сказали ему, что Гассан-хан действительно стоял вблизи с сильным отрядом, при котором были три пушки, но на рассвете поспешно ушел вниз, по направлению к Сардарь-Абаду.
Чтобы узнать действительные силы Гассан-хана, Бенкендорф предпринял рекогносцировку и, оставив на левом берегу батальон егерей и орудия, сам со всеми казаками перешел Аракc.
В двух верстах от берега встретилось ему селение Хан-Мамат. Он занял его и отрядил Вержбицкого с тремя сотнями казаков вперед для наблюдения за персиянами.
Скоро Вержбицкий дал знать, что он наступает на неприятеля. Бенкендорф немедленно отправил на помощь к нему Донской казачий полк подполковника Карпова. Но прежде чем этот последний подошел,– с черноморцами случилась беда. Дело в том, что Вержбицкий, старый и опытный воин, один их лучших представителей Черноморского войска, на этот раз оплошал. Неприятель сделал перед ним фальшивое отступление к горам и завел преследовавших казаков в каменистые, наполненные оврагами места, где они не могли даже развернуться. Несмотря на то, Вержбицкий, увлеченный храбростью, бросился на врагов и опрокинул было их правый фланг,– как вдруг массы конницы, бывшие в засаде, ударили на него с тыла…
В глухих оврагах черноморцы внезапно очутились охваченными всей четырехтысячной конницей самого Гассана. Они заметили опасность только тогда, когда уходить из-под ударов уже было поздно. Сам Вержбицкий, донской сотник Ушаков и с ними более ста черноморцев были изрублены; остальные в беспорядке поскакали назад. Но горе тем войскам, которые побегут от куртинской конницы,– редкий тогда избегнет ее горячего преследования. Поражение черноморцев было бы еще решительнее, если бы в этот момент не подоспел Карпов с донцами. Он остановил курдов и дал возможность остаткам черноморцев выбраться из западни, откуда никто из них уже не чаял выхода.
Воодушевленный успехом, Гассан-хан перешел Аракс и напал на татарские селения, чтобы перегнать их в. Персию. Бенкендорф вовремя подоспел сюда со всей своей конницей и отстоял татар. Гассан-хан был отражен и ушел снова за Аракc. Частная неудача, конечно, не могла отразиться на общем ходе военных действий; она принесла даже некоторую пользу тем, что курды все-таки были спугнуты со своего гнезда у Бей-Булаха и отодвинулись дальше к горам, а это дало возможность одному из множества татарских племен, обитавших на Эриванской территории, именно целому Шадлинскому султанству, перейти на русскую сторону. Бенкендорф вернулся в лагерь.
Блокада Эривани шла между тем своим чередом, и русские батареи время от времени принимались громить ее вековые стены. Взирая на грозную позицию русского авангарда, гарнизон начинал уже падать духом. Напрасно эриванский сардарь, стараясь ободрить персиян, указывал им на прежние блокады, говоря, что русские скоро отойдут от крепости. Сам он мало верил этому и отправлял из города в Казбин все драгоценности, в том числе золотую луну, снятую с эриванской мечети. Мера эта еще более повергла в уныние и гарнизон, и жителей. Вылазки из крепости прекратились; в городе обнаружился в значительной степени недостаток жизненных припасов, а к этому присоединились еще гнилые горячки, от которых смертность достигла ужасающей цифры. Ходили слухи, что сардарь намерен был с небольшим конвоем прорваться из Эривани, и Бенкендорф обещал пятьсот червонцев тому, кто схватит его живого.
По словам очевидцев, наступило лучшее время, чтобы овладеть Эриванью, но Бенкендорфу приказано было ограничиться только блокадой и отнюдь не домогаться покорения крепости.
Положение Эривани с каждым днем становилось все хуже и труднее, и сардарь попытался наконец привести в исполнение свое намерение – вырваться из крепости. Это было 6 июля. Персияне внезапно сделали вылазку и напали на пост, занимавший Ираклиеву гору. Но пока карабинеры отбивались,– на всех постах усилена была бдительность, чтобы, под прикрытием этой вылазки, сардарь не бежал из крепости. Персияне это заметили, и вылазка кончилась пустой перестрелкой.
Так прошло время до 15 июня, когда в блокадном лагере появился сам Паскевич. А вслед затем, на смену Бенкендорфу, прибыла двадцатая пехотная дивизия, под командой генерала Красовского.
Константин Христофорович Бенкендорф, начавший походом к Эчмиадзину свою боевую кавказскую службу, принадлежал к числу весьма замечательных военных деятелей России первой четверти нашего века. Он был один из тех прославившихся в эпоху наполеоновских войн партизанов, на которых с глубоким вниманием должен остановиться каждый военный историк.
В тревожные, бурные времена, Бенкендорф появлялся всюду, где только начиналась война и слышались выстрелы. А между тем, в своей молодости он совсем не готовился к военному поприщу. Представитель одной из лучших, старинных эстляндских фамилий, он получил солидное образование, говорил почти на всех европейских языках и посвятил себя вначале исключительно дипломатической карьере. И в то время, как старший брат его, Александр Христофорович, впоследствии всемогущий шеф корпуса жандармов и один из приближенных к императору Николаю Павловичу людей, дослужился в военной службе уже до генеральского чина,– Константин Бенкендорф, состоявший при министерстве иностранных дел, получил звание камергера. Это было, впрочем, и последнее служебное повышение его на гражданском поприще. Наступил 1812 год, и Бенкендорф охотно променял свой камергерский ключ на скромный чин армейского майора и стал в ряды защитников отечества. Когда он приехал в Тарутинский лагерь, Кутузов предложил ему поступить в один из кавалерийских полков; но Бенкендорф, мало знакомый с фронтовой службой, просил назначить его в летучий отряд барона Винценгероде, действовавший в окрестностях Москвы и Можайска. В этом-то отряде, под руководством опытного генерала, он узнал военное дело и вскоре проявил такие боевые способности, которые быстро образовали из него лихого партизана. В отечественную войну он получил георгиевский крест и чин подполковника.
В 1813 году, когда началось освобождение Германии, Бенкендорф командовал уже самостоятельным отрядом, с которым и не расставался до самого заключения мира. С ним он прошел через всю Германию и Францию, ознаменовав свой путь целым рядом блестящих партизанских дел, которые доставили ему чин полковника и звание флигель-адъютанта, потом генеральский чин и орден св. Георгия 3-его класса. В то же время он сумел вызвать в подчиненных ему казаках любовь и доверие, которые сохранил до самой смерти; немецкое имя Бенкендорфа пользовалось среди донцов такой популярностью, которой могли позавидовать многие донские уроженцы, не говоря уже о просто русских офицерах, командовавших партизанами. Сам Бенкендорф объясняет это своей любовью к казакам и умением действовать на их нравственную сторону. “Безграничное самолюбие,– писал он императору Александру,– есть одно из отличительнейших свойств казаков, и я этим пользовался. В виду регулярных войск, из одного соревнования с ними, они готовы на все, и трудно себе представить такую лихую, молодецкую атаку, как под Жюилье (в январе 1814 года), когда казачий полк Жирова шел в атаку справа, полк Сысоева – слева, а два эскадрона павлоградских гусар в середине…”
После французских войн Бенкендорф командовал некоторое время драгунской бригадой, а затем, зачисленный по кавалерии, возвратился к своей дипломатической деятельности и был назначен чрезвычайным посланником ко двору короля Виртембергского.
Дипломатические занятия не могли, однако, погасить в нем воинственного духа. Приобретя военную опытность и имя, почетное в войсках, он ожидал только случая, чтобы снова явиться на свое любимое поприще. И вот, едва началась персидская война, как он, не колеблясь, решается оставить семью, прекрасный климат Германии, почет, которым был окружен при королевском дворе, и пишет государю письмо, прося для себя назначения в Кавказском корпусе. Император Николай вполне оценил благородный порыв отважного генерала, и, посылая его, еще осенью 1826 года, в Грузию, вместе с тем назначил своим генерал-адъютантом. Назначение его на Кавказ было дано ему, однако, с тем, чтобы, по окончании войны, он немедленно вернулся в Петербург.
Бенкендорф приехал в Тифлис в самый разгар интриг и доносов Паскевича. По своему положению при Дворе, ему естественно было принадлежать к сторонникам Паскевича, чем Ермолова. Тем не менее он отнесся с подобающей справедливостью к сплетням о масонских и архилиберальных тенденциях, будто бы обуявших весь Кавказ, и писал своему брату, шефу жандармов, что все изветы на Ермолова лживы. Письмо это было показано императору.
Паскевич, согласно с желанием самого государя, поручил Бенкендорфу командование авангардом,– положение, которое в ермоловских войсках обыкновенно принадлежало Мадатову. Украшенный Георгием на шее, пылкий, отважный, он быстро овладел любовью и уважением своих подчиненных и повел их к победам.
XIX. ПАСКЕВИЧ НА АРАКСЕ
После замедлившихся приготовлений к военным действиям, Паскевич выехал наконец, 12 мая 1827 года, из Тифлиса, окруженный блестящим конвоем из пятисот человек грузинских и армянских князей лучших фамилий. Дибича тогда уже не было на Кавказе; он выехал из Тифлиса еще 30 апреля. И Паскевич был теперь полным и самостоятельным распорядителем вверенного ему края.
В Шулаверах он осмотрел полки, уже готовые к походу, и отдал приказ выступать. 13 мая войска пошли эшелонами, но подвигались вперед чрезвычайно медленно. Дороги были еще так плохи, что сам Паскевич, ехавший в легкой коляске, едва в три дня сделал тридцать верст и добрался до Акзабиюкского поста. Отсюда он писал государю, что понимает теперь, почему тяжелые транспорты проходили этот путь в десять и более дней.
Вообще, знакомясь с обстоятельствами, в которых жило Закавказье, Паскевич научился многому и принимал меры, необходимость которых еще недавно ему не была понятна. Действующие войска он усиливал: из Нальчика, с Кабардинской линии уже шли к нему два батальона Кабардинского полка, и в то же время формировался конный армянский легион в Тифлисе. Там, 15 мая, в армянском соборе совершилась торжественная церемония освящения армянского знамени, а 17 мая дружина уже выступила в поход к Эривани. На пути ее поднималось армянское селение и присоединялось к своим братьям. Скоро дружина насчитывала в своих рядах более тысячи всадников, “пылавших,– как доносил Паскевич,– духом верности и преданности к России”. Трудно изобразить восторг их, когда, впоследствии, перед их глазами встали святые стены Эчмиадзина, на которых тихо колебалось русское знамя.
В тот день, как армянский легион выступал из Тифлиса, 17 числа, Паскевич был еще в Акзабиюке. Там случилось одно обстоятельство, прибавившее уже к тревожным заботам о необеспеченном положении авангарда под Эриванью новые.
В главную квартиру приехал курьер из Карабагского отряда, от генерала Панкратьева, с депешами еще от 7 числа, чрезвычайной важности. В них говорилось о смерти персидского шаха, будто бы скончавшегося за несколько дней перед тем в Тегеране; известие это подтвердилось в тот же день и частным путем, совершенно с другой стороны, из Нахичевани.
Известия эти, основанные на слухах, не были достоверны; но с часу на час можно было ожидать, что они подтвердятся официальным путем, и тогда для России создалось бы совершенно иное положение. Смерть шаха, в которой не было ничего невероятного по самой преклонности его лет и по тем тревогам, которые пришлось ему пережить за последнее время, могла совершенно изменить русскую политику и повлиять на самый ход военных действий. Слишком хорошо известны были последствия, какими всегда сопровождается в Персии смерть царствующего государя, чтобы не глядеть с опасением на будущее. С большой вероятностью можно было ждать, что в Персии произойдут серьезные замешательства, что за раздорами многочисленных шахских сыновей поднимутся междоусобия и мятеж народный разольется от ворот Тегерана до русской границы. Могло случиться прежде всего, что один из сонаследников, ближайший по местопребыванию к сокровищам покойного отца, раньше других захватит вместе с ними власть и корону, как сделал сам Фетх-Али-Шах по смерти дяди, Ага Мохаммед-хана,– и тогда Аббас-Мирза, отвлеченный от столицы войной, мог быть легко оттеснен и от престола. Паскевичу представлялась сложная задача решить, как должен он поступать в смутных обстоятельствах, которые могли возникнуть в Персии: поддерживать ли Аббас-Мирзу и с ним трактовать о мире, если он на первое время восторжествует над другими претендентами на шахский престол, или же принять предложения того из претендентов, который покажет себя непритворно расположенным к России, допустит ее влияние и будет притом настолько силен, чтобы поддержать свои обещания на деле.
Но если бы исчезла всякая надежда на возможность восстановить порядок и единодержавие в земле, раздираемой различными честолюбцами, Паскевич предположил во всяком случае принять под русское покровительство все смежные с новой русской границей ханства на тех же условиях, на которых некогда были приняты в подданство ханы карабагский, ширванский и другие; он даже соглашался дать им права несколько большие, оставив им совершенную политическую независимость, лишь бы только владения их заслоняли новые приобретения России от всякого покушения персиян.
Все недоумения Паскевича, о которых он писал государю, были разъяснены впоследствии распоряжениями из Петербурга, которые вместе с тем должны были послужить программой для действий Паскевича и на будущее время при всяких обстоятельствах. “В случае междоусобной войны и всеобщего безначалия,– писал ему граф Нессельроде,– Персия легко может подвергнуться совершенному разрушению. Не будет существовать никакого правительства, и мы поставлены будем в недоумение, с кем начать переговоры или установить верные сношения. В таком положении дел, когда все погружено будет в замешательство и расстройство, не следует принимать никакого участия во внутренних раздорах, ни поддерживать ни того, ни другого соискателя престола, а быстро продолжать военные действия, перейти за Аракc и, главным образом, занять Энзели, чтобы утвердиться на берегу Каспийского моря. В этом пункте держаться до тех пор, пока Персия будет волнуема междоусобиями, предлагая постепенно господствующей стороне мир и возвращение как всех завоеваний на правом берегу Аракса, так и самого Энзели, с тем, чтобы Персия уступила России Эриванское и Нахичеванское ханства и заплатила военные издержки”.
И относительно прочих ханств государь не был согласен с мнениями Паскевича. Если бы ханы, пользуясь безначалием, пожелали отторгнуться от Персии и сделаться независимыми, то Паскевич не должен был ни возбуждать их к подобной решимости, ни отклонять от нее. Единственное обещание, которое он мог им сделать – это обещание убежища в России в том случае, если бы опасность принудила их оставить ханства и удалиться в Грузию. Государь постановлял непреложным правилом – всемерно уклоняться от всяких обещаний, внушений и воззваний, которые могли бы возложить на Россию какие-либо стеснительные обязательства в будущем; он требовал границы по Аракc и не допускал никаких других соображений, могущих завлечь далее этой, ясно определенной цели.
Ответ этот пришел, однако, лишь впоследствии, когда Паскевич находился уже под Эриванью и когда достоверно стало известно, что слух о смерти шаха ложен. Теперь же Паскевич шел вперед, готовый к действиям, но еще не уверенный, какие действия ему предстоят. Обгоняя войска и любуясь их молодецким видом, он, впрочем, писал государю: “Надеюсь с Божьей помощью, что персияне раскаются до истечения пятимесячного срока в том, что дерзнули объявить войну, и почетный мир будет подписан в стенах Тавриза”. Из Гергер 3 июня Паскевич уехал, оставив войска позади, и приказал следовать за собой налегке только лейб-гвардии Сводному полку, полку донских казаков и армянской сотне с двумя орудиями. Он торопился в Эчмиадзин, чтобы до прибытия туда войск ознакомиться на месте с положением дел и безотлагательно принять необходимые меры к дальнейшему наступлению.
8 июня Паскевич уже был в Эчмиадзине.
Здесь встретил его посланный от Аббаса-Мирзы с письмом и новыми предложениями мира, впрочем, весьма уклончивыми. Персияне не шли далее уступок Ленкорани и Баш-Абарани, то есть владений, которые давно уже принадлежали России. Паскевич оставил письмо без ответа, а посланного приказал задержать, считая неуместным самое появление его в русском лагере.
“Аббас-Мирза еще не государь Персии,– сказал он посланному,– пусть его величество, шах, сам пришлет доверенного сановника и через него объявит мне свои предложения”. Очевидно, посланный приезжал только разведать о русских силах. Он скоро и переменил свою политику, стараясь выдать себя за человека, приверженного к русским, готового содействовать им своими связями и к овладению Сардарь-Абадом, и к возмущению сильного авшарского племени, кочевавшего возле Урмийского озера. Паскевич окончил все подобные разговоры словами: “Мы никого не обманываем, и сами в обман не дадимся”.
Войска подходили к Эчмиадзину и становились лагерем. Вся батарейная артиллерия тотчас была отправлена под Эривань, чтобы прибытием своим устрашить гарнизон, а если комендант расположен сдать крепость, то доставить ему для того благовидный предлог. Бенкендорф давно уже писал Паскевичу, что Сават-Кули-хан только ожидает русского главнокомандующего, чтобы войти с ним в непосредственные сношения. Но заявления со стороны коменданта были только хитростью, так как все дело обороны находилось в крепких руках старого сардаря, человека, по выражению Паскевича, “с большим нравственным духом”. А он был верен Персии. Комендант не смел, да и не мог действовать против воли сардаря, и даже ответ на записку, которую Бенкендорф послал к Сават-Кули-хану, пришел за ханской подписью. “Если Паскевич,– писал эриванский сардарь,– намерен видеть коменданта для переговоров о сдаче,– то это бесполезно, так как, будучи главным начальником, я решил уже не сдаваться”. Но свидание по всякому другому делу он разрешал, под условием, однако же, чтобы предмет разговоров был ему известен. Паскевич приказал Бенкендорфу ответить, что не он просил свидания у коменданта, а комендант сам хотел его видеть,– и затем перервать всякие сношения с крепостью.
Стойкость сардаря была тем непонятнее, что он, по-видимому, не мог рассчитывать ни на какую помощь. С прибытием Паскевича в Эчмиадзин все ожидали, что участь Эривани будет немедленно решена. На этом настаивали генералы Унтилье и Трузсон. Между ними были разногласия только относительно времени, необходимого для овладения крепостью. Первый, начальник артиллерии, считал, что для пробития брешей потребуется 20 дней, а Трузсон, начальник инженеров, думал, что осада будет окончена в две недели. И как только прибыли под Эривань батарейные роты, Трузсон не медля начал устраивать батареи по ту сторону Занги, с тем, чтобы разбить башню, которой оканчивалась у реки северная сторона крепости.



