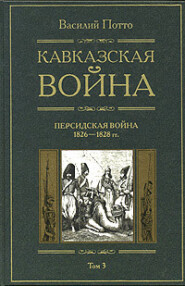 Полная версия
Полная версияКавказская война. Том 3. Персидская война 1826-1828 гг.
Он облачился в святительные ризы и на коленях, горячо и пламенно молился о спасении родины, о ниспослании ей долгих и счастливых дней под мощным покровом России,– молился о том, чтобы армянский народ “оказался достойным своего бытия и воскрешения из мертвых”… На чуждом и непонятном для русского войска языке совершалась божественная служба, но все молились усердно, как может молиться только человек вдали от родины.
“Молитва,– говорит один замечательный военный писатель,– под небесным сводом, в живом храме божьего мира и его красот, с челом, освещенным лучами солнца,– сколько в ней торжественной силы и наития, волнующего душу! Она свята и торжественна. Она звучит во всеуслышание стихиям. Ей вторит плеск волны, шум ветра, голос птицы, витающей в поднебесьи. Бесконечная синяя даль кругом расширяет смысл слов ее в самую вечность. Это она, солдатская молитва, которая до Бога доходит и за Богом не пропадает”.
По окончании молебствия войска прошли церемониальным маршем и в час пополудни, 13 апреля, заняли эчмиадзинский монастырь. С противоположного берега Абарани, следил за этим торжественным вступлением русских в центр религиозной жизни армянского народа сильный конный отряд, еще накануне наблюдавший за движением русских войск. Во главе его стоял Измаил-ага, один из старейших куртинцев.
Монастырь представлял теперь вид пустынный. Ворота его были завалены камнями, и из всего эчмиадзинского монашества осталось только двадцать два инока,– остальные все увезены были в Эривань; как ни торопился отряд Бенкендорфа, он все-таки опоздал: большинство населения было переселено за Аракc. В опустевшем крае нечем было довольствовать войска, надежды на богатые запасы Эчмиадзина также исчезли. С другой стороны, на скорое прибытие транспортов из Грузии не было никакой надежды. Отряд очутился в отчаянном положении. Паскевич впоследствии обвинял в этом Нерсеса, приписывая бедствия авангарда его честолюбивому стремлению, несмотря ни на что, поскорее занять кафедру в Эчмиадзине, Монахи указывали, впрочем, на две деревни: Нижние и Верхние Айгланлы, покинутые жителями, где, по их соображениям, должно было быть значительное количество хлеба, зарытого в землю. Чтобы разыскать его, Бенкендорф послал две роты Ширванского полка, под командой майора Юдина.
Нижние Айгланлы оказались занятыми персиянами. Укрепившись в садах, за высокими глиняными стенами, встретил неприятель ширванцев сильным ружейным огнем. Это были первые выстрелы начинающейся кампании. Послав известие обо всем Бенкендорфу, Юдин повел решительное наступление и взял деревню. На помощь к нему скоро пришли остальные роты его батальона и две роты карабинеров с сотней казаков и орудием, под командой майора Хамуцкого. Юдин прочно утвердился в деревне.
Войска перерыли деревню, осмотрели окрестности – нигде не было ни зерна хлеба. Юдин порешил идти в Верхние Айгланлы, позже покинутые жителями и не успевшие, как казалось, побывать в руках хищных курдов. На пути, на Абаранском поле, стоял неприятель. Волнистая местность скрывала его силы, но видно было, что он не намерен уступить дороги без боя, и едва отряд тронулся, как курды уже завязали перестрелку. Здесь-то, в первый раз в эту кампанию, русские увидали знаменитую конницу. Не говоря уже о красоте кровных куртинских жеребцов, внушительное впечатление производили сами наездники, исполинский рост которых казался еще громаднее от высоких головных тюрбанов, украшенных перьями и золотом. Когда куртин, гремя и сверкая оружием, бешено несся на своем жеребце, крутя над головой гибкую пику, увенчанную пучком дорогих перьев, он имел поражающий вид, способный, по крайней мере на первых порах, озадачить всякого противника. Донцы поддавались этому впечатлению каждый раз, когда на них налетала курганская конница,– и давали тыл… Кучки застрельщиков также невольно сжимались плотнее. Все это не останавливало, однако, общего наступления. Единственное орудие, бывшее в распоряжении русского отряда, смело выносилось вперед, меткой картечью заставляло куртинцев покидать преследование и расчищало дорогу стрелкам. Командовавший орудием прапорщик Отрада был героем этого дня, и Бенкендорф в своем донесении отдает полную справедливость как его отваге, так и распорядительности Юдина и Хамуцкого.
Усилия русских войск не послужили, однако, ни к чему: Верхние Айгланлы были так же пусты, как и Нижние, и отряду пришлось возвратиться в Эчмиадзин с пустыми руками. К тому же из этой экспедиции Бенкендорф вынес,– как писал он,– печальное убеждение, что донские казаки не могут противостоять пылкости куртинских наездников.
Недостаток продовольствия, угрожавший всему авангарду серьезной опасностью, встревожил Паскевича. В Грузии тотчас сформирован был воловий транспорт. Но так как дожди испортили дороги, и медленность движения обозов была такова, что на переход в тридцать верст, от Шулавер до Акзабиюкского поста, требовалось целых десять-двенадцать дней, причем от изнурения гибло множество скота,– то сформированы были два вьючных транспорта: один на волах, другой на лошадях двух конных черноморских полков, и немедленно отправлен в Эчмиадзин, под прикрытием батальона тридцать девятого егерского полка. Этой мерой имелось ввиду достигнуть и другую цель – усиление отряда Бенкендорфа двумя боевыми казачьими полками, видавшими у себя на Кубани и не такого неприятеля, как курды.
Но пока транспорты шли, Бенкендорф не мог оставаться без продовольствия, и должен был попытаться искать его в окрестностях Сардарь-Абида, с тем, что если не будет никакой возможности овладеть самой крепостью, то направиться через Талынь к Арпачаю и добыть съестные припасы из Карсского пашалыка.
16 апреля весь отряд, оставив в Эчмиадзине гарнизон из батальона ширванцев и сотни казаков при двух орудиях, выступил в поход. Дорогу к Сардарь-Абаду преграждала сильная куртинская конница, отступившая сюда с Абаранского поля. Чтобы отвлечь ее в сторону, Бенкендорф приказал Ширванскому батальону двинуться по эриванской дороге. Часть неприятельской конницы, действительно, направилась в ту сторону и окружила батальон. Граф Бельфорт, командовавший ширванцами, свернул их в каре и два часа отражал яростные нападения неприятеля.
Между тем Бенкендорф продолжал движение вперед. Верстах в двенадцати от Эчмиадзина находится урочище Карасу-Баши, болотистое и густо заросшее крупным камышом. Тут ждала русских отборная куртинская конница под личным начальством Гассан-аги и Измаила хана Айрюкского. Уверенные, что на болотистом грунте, гибельном для кавалерии, легкие и пылкие лошади их легко возьмут верх над казачьими маштаками, изнуренными трудным походом и притом тяжело навьюченными, куртинцы обскакали отряд с левого фланга и стали на высотах около истоков реки Карасу.
Бенкендорфу в первый раз пришлось наблюдать здесь эту типичную восточную конницу. Но он не поддался производимому ею впечатлению и, несмотря на недавно испытанную донцами неудачу в сражении с ней, предвидел, что действительная нравственная сила не на стороне разбойничьего племени. Мужественно выступил он навстречу врагам. Три сотни Карпова полка, по его команде, развернули фронт и направились на центр неприятеля; за ними непосредственно двинулись влево две сотни из полка Андреева и стали обходить неприятельский Фланг; а далее бегом шли две роты тифлисцев, при которых находилось орудие. Пехота не хотела отставать от конницы, и стрелки, хватаясь за стремена, бежали наряду с казаками. Ободренные горячим словом Бенкендорфа, не раз водившего в бой их храбрых отцов, стыдясь малодушия, выказанного ими в деле при Айгланлы, донцы на этот раз с необычайным бесстрашием ударили на курдов. Полковник Карпов и флигель-адъютант граф Толстой – первые врезались в ряды персиян и увлекли за собой казаков. Изумленный неожиданно-стремительным ударом тех, которых его учили всегда презирать, неприятель не выдержал натиска и, сбитый с поля, понесся назад, не успевая даже подбирать тела убитых, которые так и остались разбросанными по всему протяжению боевого поля. Измаил-хан, видя поражение центра, сам бросился в толпу своих бегущих наездников, собрал их и возобновил бой. Но в эту минуту на него наскакал урядник Кульгин, любимец Бенкендорфа, и ударом пики сбил его с лошади. Храбрый Измаил-хан очутился в плену. Весь правый фланг неприятеля между тем был сбит двумя казачьими сотнями, которые вел подполковник Андреев. Тифлисские стрелки, приспевшие вместе с казаками, усилили поражение беглым огнем, а тут подоспело орудие – и выстрел картечью внес новое смятение в ряды врагов. Этим моментом воспользовался Карпов и с громким криком “ура” снова ударил в пики. Тогда вся куртинская конница бросилась бежать и рассыпалась по полю, преследуемая казаками почти до ворот Сардарь-Абада.
“Казаки,– писал об этом сражении Дибич государю,– горя желанием загладить неудачу, понесенную ими в последнем деле при Айгланлы, с невероятным мужеством бросились на курдов, в одно мгновение опрокинули и погнали их”.
Славный день этот стоил казакам двух убитыми и семнадцати ранеными.
Это был еще первый пример поражения отважных курдов донцами, и с этих пор имя Бенкендорфа получило грозную известность во всем Курдистане. Какое значение справедливо придавали современники этому небольшому делу, можно судить уже по тому, что грузинский князь Меликов, посланный в Петербург с известием о победе, как один из наиболее отличившихся участников его был награжден лично императором орденом св. Владимира с бантом и принят корнетом в Лейб-гвардии казачий полк.
Пока донцы управлялись с курдами, подошел весь отряд и расположился бивуаком в трех верстах от Сардарь-Абада.
Был уже темный вечер, когда глазам бывших впереди казаков и татар предстала огромная черная масса, рельефно выделявшаяся на темном небе. То были стены Сардарь-Абада. Бенкендорф, с пятью ротами пехоты при четырех орудиях, в ночном мраке тихо и осторожно приблизился вслед за казаками к персидской твердыне, разведывая, не удастся ли захватить врасплох сонную крепость… Но вдруг сверкнула молния выстрела, глухой удар потряс окрестную долину, и огненное ядро, описав яркую дугу на небе, упало перед русскими колоннами. Движение было открыто. Бенкендорф послал парламентера с требованием сдачи крепости. Комендант отвечал, что он лучше согласится быть погребенным под ее развалинами. Тогда батарея, вызванная вперед, открыла огонь.
Неприятель, со своей стороны, отвечал учащенной пальбой из всех орудий. Здесь едва не был убит и сам Бенкендорф,– граната с потерянной трубкой пролетела от него так близко, что обсыпала его пороховой мякотью.
В крепости от русских выстрелов вспыхнул между тем пожар; там поднялась суматоха. Все ожидали немедленного приступа, но Бенкендорф, удостоверившись в силе укреплений, ограничился рекогносцировкой и на следующий день отошел к Эчмиадзину. Вопрос о продовольствии остался не решенным, и приходилось принять другие меры. На Арпачай, за покупкой хлеба у турок, был послан полковник князь Северсамидзе с шестью ротами пехоты, с казачьим полком и тремя орудиями. Нужно сказать, что Паскевич со своей стороны еще раньше отправил поручика Блома в Арзерум к сераскиру, чтобы получить от него разрешение на покупку припасов во владениях султана. Но и эта попытка оказалась неудачной. Сераскир согласился со своей стороны не мешать русским, но предложил провести все дело так, чтобы ни ему, ни карсскому паше как бы совершенно не было известно о производимых русскими закупках; он ссылался на то, что отказал уже персиянам в покупке свинца и пороха в турецких владениях, что Турция находится в дружеских сношениях с Россией и Персией, и потому помогать той или другой он почитает противным международным правам и нейтралитету.
Неудача этой попытки усложнялась еще тем, что казачий конвой, сопровождавший Блома до турецкой границы, постигла горькая участь. На возвратном пути, в окрестностях Цалки, близ озера Топорвани, он был внезапно атакован какой-то скитавшейся шайкой турецких разбойников и, 15 апреля, погиб в неравной битве. Из семнадцати донцов, бывших тут, сотник Миронов и с ним семь казаков были изрублены, пять человек раненых захвачены в плен, и только четверым удалось спастись в густых камышах Топорванского озера. Говорили потом, что головы убитых казаков были доставлены к Шериф-are и что он отправил их в Эривань к сардарю.
Столь же мало успеха имели и сношения князя Северсамидзе с карсским пашой. Паша говорил откровенно, что если бы он и разрешил покупку, то транспортов все равно не пропустит подданный Турции, но тайный сторонник эриванского сардаря,– владелец Магазбертский, Ага-Шериф. Во всяком случае” закупка продовольствия без участия этого последнего производиться не могла, и Северсамидзе обратился к нему, но Шериф отвечал, что он не даст своего согласия без позволения эриванского сардаря. Таким образом, и миссия Паскевича, и экспедиция Бенкендорфа не повели ни к чему, и князь Северсамидзе с трудом достал хлеб только для своего отряда.
К счастью для Бенкендорфа, 23 апреля утром прибыл наконец в Эчмиадзин давно ожидаемый вьючный транспорт на волах из Грузии. На десять дней войска были обеспечены, и Бенкендорф решился немедленно, не ожидая возвращения Северсамидзе, продолжать наступление. В тот же день вечером войска двинулись к Эривани.
XVIII. АВАНГАРД ПОД ЭРИВАНЬЮ (Генерал Бенкендорф)
Знаменитая крепость Эривань стоит на скалистом, возвышенном берегу быстрой речки Занги, древнего Гураздана, верстах в тридцати к востоку от Эчмиадзина. Неприступны ее твердыни, и о них не раз уже сокрушались все усилия русских войск.
К концу апреля 1827 года, в то время, как Бенкендорф совершал свои движения по окрестностям Эчмиадзина и главные действующие силы русских готовились вступить в Эриванское ханство, в крепости тревожно ожидали блокады.
На помощь персиян надежды не было: ли шах, ни Аббас-Мирза еще не были готовы к военным действиям, и крепость должна была рассчитывать только на свои собственные силы против грозного наступления русских. Отряд Бенкендорфа был, правда, слишком малочислен, чтобы страшиться его нападения; но он мог блокировать крепость и подорвать ее нравственные силы до тех пор, пока надвинутся грозные силы Паскевича – и безвозвратно решат участь Эривани. И много мучительных дум прошло за эти дни в седой голове сардаря.
Слух о каждом отважном движении Бенкендорфа в окрестностях Эчмиадзина в тот же день достигал Эривани. Но вот, в роковое утро 24 апреля, запыхавшийся гонец примчался с известием, что русские идут по направлению уже к самой крепости. Часу в девятом утра, действительно, послышалась вдали трескотня ружейной перестрелки: эриванская конница встретила русские войска в ближайшей деревне и, спешившись в садах за высокими заборами и рвами, пыталась остановить наступление. Целый час держалась она с непривычным для персиян упорством и стойкостью. Две роты грузинских гренадёр, наконец, штыками выбили ее из засады, прошли через всю деревню и на глазах эриванских жителей заняли высокий курган Муханат-Тапа, лежавший против юго-восточного угла укреплений. Со стен Эривани загремели пушки; гарнизон сделал сильную вылазку, и два батальона сарбазов, выйдя из южных и восточных ворот, заняли сады, облегавшие с той стороны городские предместья. Снова загорелся бой. Грузинские гренадеры пошли штыками очищать предместья, и к вечеру большая часть садов окончательно перешла в руки русских; неприятельская пехота ушла в город, конница отступила по дороге к. Нахичевани.
Оставив роту грузинцев в садах и две роты карабинерного полка на кургане Муханат-Тапа, Бенкендорф собрал остальные войска и расположил их лагерем против южной стороны Эривани. Отсюда он и начал постепенное обложение крепости.
В ночь на 25 апреля Ширванский батальон занял Ираклиеву гору, лежащую на западной стороне Эривани, и подполковник Эристов поставил на ней свою батарею. С первыми лучами солнца загремела по крепости канонада. Первая же граната обрушила одну из крепостных амбразур, сбив неприятельское орудие; вторая – зажгла дворец эриванского сардаря. В крепости ударили тревогу, и стены Эривани покрылись сарбазами. Завязалась упорная перестрелка, и гром пушечных выстрелов покрыл своими перекатами дикие крики, которыми, видимо, хотели ободрить себя персияне. Часам к одиннадцати утра канонада стихла. Ширванцы возвратились в лагерь, а на Ираклиевой горе остался наблюдательный пост из двух рот карабинеров и четырех батарейных орудий, под командой майора Хамуцкого.
Наступившее затишье было, однако, непродолжительно. В четвертом часу пополудни поднялась тревога уже в русском лагере. Сильный персидский отряд из пехоты и конницы, под личной командой эриванского коменданта Сават-Кули-хана, скрытно пробрался через восточное предместье, вошел в сады и неожиданно ринулся на грузинскую роту. Внезапно атакованная значительными силами, рота подалась назад. Но скоро на помощь к ней подоспели из лагеря остальные части первого батальона, под командой полкового командира флигель-адъютанта полковника барона Фридерикса. Персияне в свою очередь отступили и, заняв крепкую позицию, прикрытую с фронта глубоким, скалистым оврагом, упорно сопротивлялись наступавшим русским войскам. Завязался жаркий бой. Начальник отрядного штаба полковник Гурко, прискакавший из лагеря на шум битвы, приказал роте карабинеров, занимавшей Муханат-Тапу, вступить в дело. Капитан Колпинский, командовавший ею, искусным движением вышел в тыл неприятелю, и только тогда персияне, очутившиеся между двух огней, обратились в бегство. Напрасно некоторые части их пытались держаться в садах и на кладбище,– пункты эти взяты были штыками, и гренадеры остановились только под стенами крепости. Поражение неприятеля было полное, и потери его были весьма велики: сто неприятельских тел осталось на месте. Пленных не было, ибо, как доносил Бенкендорф, гренадеры никому не давали пощады. Дибич – все еще находившийся в Тифлисе – поставил, однако, это обстоятельство на вид Бенкендорфу и просил его на будущее время удерживать солдат от напрасного кровопролития. Русские потеряли из строя восемнадцать человек, и между ними убитым подпоручика князя Вачнадзе.
На следующий день другой батальон ширванцев, под командой майора Юдина, был послан занять северный форштадт крепости. С барабанным боем и распущенным знаменем ширванцы прошли, под сильным пушечным огнем, мимо всего восточного фаса крепости, вступили в форштадт и заняли базар, мечеть и все предместье до самого берега Занги. На высоте Тапа-Баши стала деревня и открыла канонаду по крепости. Неприятель отвечал со всех орудий и бросил бомбы; но, к счастью, неприятельские выстрелы не причиняли осаждавшим никакого вреда. 27 числа, окончательно был занят и восточный форштадт. Теперь крепость была обложена со всех сторон.
Войска расположились так: три роты Тифлисского полка остались в Эчмиадзине, где собраны были больные и все лишние тяжести авангарда, в лагере, против южного фаса Эриванской крепости, стали: весь Грузинский гренадерский полк, три орудия и казачьи полки Андреева и Карпова, и тут же поместилась главная квартира Бенкендорфа. Сам он поселился в саду, в китайской беседке с белым мраморным фонтаном, в той самой, где год перед этим содержался князь Меншиков. Далее, курган Муханат-Тапа заняла рота карабинеров и сотня казаков; против восточного фаса стоял второй батальон Ширванского полка с двумя орудиями, под командой подполковника Волжинского; а между ширванцами и карабинерами, служа связующим звеном между ними, расположилась рота тифлисцев. Затем, против северного фаса действовал первый батальон Ширванского полка и четыре орудия, под командой майора Юдина, а против западного, на Ираклиевой горе,– три роты карабинеров, два орудия и пятьдесят казаков, под командой майора Хамуцкого. От последнего отряда был выставлен пост для охраны моста через речку Зангу.
Блокада Эривани началась. Бенкендорф имел, между прочим, поручение попытаться склонить сардаря на добровольную сдачу крепости. Но в успех этого предприятия едва ли кто верил. Сардарь обладал огромными богатствами, и деньгами подкупить его было невозможно. Оставалось одно средство, которое могло оказаться действенным,– это обещать ему, что, в случае присоединения Эриванского ханства к России, он будет оставлен в том же звании сардаря, с сохранением всех его доходов. Исполнение этого обещания Дибич считал весьма удобным и выгодным: сардарь был восьмидесятилетний старик, не имел сыновей, и со смертью его все обязательства по отношению к нему кончались бы сами собой. Но сардарь отказался и от этого. Неподатливость его объяснялась, между прочим, тем, что он знал о затруднительном положении русского отряда, не имевшего обеспеченного провианта и не находившего его в окрестностях. Небезызвестно было ему, что солдаты одно время питались кореньями. Рассказывают, что, как бы в насмешку над положение Бенкендорфа, он прислал просить у него бутылку шампанского. Этого добра в отряде оказалось вдоволь, и генерал отправил сардарю целый ящик вин с дорогими закусками. Тот должен был принять этот подарок и, по обычаю Востока, отблагодарил Бенкендорфа персидскими сластями и фруктами.
Неудача переговоров с сардарем не уничтожила, однако, надежд отворить крепость посредством золотого ключа, и Бенкендорф завел сношение с комендантом Эривани, Сават-Кули-ханом. Этот последний оказался сговорчивее, однако, не хотел дать решительного ответа до личного свидания с Паскевичем.
Так проходил день за днем, среди перестрелок и стычек; но в течение этого времени не было попыток прорвать блокирующую линию русских. Вдруг, в ночь с 29 на 30 апреля, на пикет, охранявший мост через Зангу, бросилась персидская конница – Бог весть откуда появившаяся, но, видимо, намеревавшаяся прорваться в крепость. По первым же выстрелам гарнизон, со своей стороны, сделал сильную вылазку, и пост был окружен густыми толпами неприятеля. Пятьдесят человек солдат, с поручиком Петровым во главе, видя многочисленность персиян, заняли бугор неподалеку от моста и здесь выдержали геройский бой с неприятелем, в двадцать раз превосходившим их силами. Пока Петров отбивался, крепость гремела изо всех орудий северного и западного фаса, чтобы не допустить на место боя подкреплений. Батареи майоров Хамуцкого и Юдина стали отвечать, а взвод карабинеров двинулся на выручку Петрову. Но там уже дело окончилось. Петров не только отстоял свой пост, но смелым ударом в штыки разогнал неприятеля: сарбазы возвратились в крепость, конница ушла обратно на ту сторону Занги. С наступлением дня русские могли убедиться, что попытка неприятеля стоила ему громадных потерь: все поле между бугром и крепостью было завалено персидскими телами. В русском отряде потерь не было, что объясняется отличным выбором позиции и самой смелостью внезапного перехода от обороны к наступлению. Петров, в чине поручика, получил за это дело золотую шпагу – случай в то время исключительный.
Как ни ничтожна была сама по себе попытка неприятеля прорваться в крепость, но она наводила на мысль, что курды стояли где-нибудь поблизости. Предположение это имело основания; давно уже носились слухи, что Гассан-хан выступил из Сардарь-Абада со всей своей конницей, а в ночь со 2 на 3 мая казачьи разъезды видели большие огни за Араксом. Это обстоятельство могло выгодно отозваться на блокаде. По счастью, в этот самый день и в русский лагерь прибыли подкрепления. То были два конные полка черноморского войска, доставившие из Грузии вьючный транспорт на своих лошадях. И Бенкендорф воспользовался подкреплением, чтобы заставить Гассан-хана держаться подальше от русского лагеря. 4 мая барон Фридерикс с двумя ротами грузинских гренадер, с одним орудием и двумя сотнями черноморцев послан был на разведку к стороне Гарничая. Верстах в пятнадцати от лагеря, по Нахичеванской дороге, отряд этот внезапно был атакован Гассан-ханом. Поручик Коцебу, обер-квартирмейстер Кавказского корпуса, один, без конвоя, поскакал известить о том Бенкендорфа; но пока Бенкендорф вел из лагеря всю свою конницу, Фридерикс не только успел отразить нападение, но и заставил Гассан-хана отступить обратно к Сардарь-Абаду. Войска воротились в лагерь. Прошло три-четыре дня,– Гассан-хан появился снова, и на этот раз уже на самой Занге. Вечером 8 мая получил Бенкендорф об этом верные сведения и в ту же ночь решился жестоко наказать неприятеля.
Три казачьи полка, два черноморские и один донской, подкрепленные частью пехоты, в полночь вышли из лагеря навстречу неприятелю. Но Гассан-хан вовремя проведал об этом движении и, спешив свою конницу, занял крепкую позицию в углу, образуемом слиянием Аракса и Занги. Выгода внезапного нападения исчезла для Бенкендорфа, и ему приходилось или брать переправу открытой силой, или перейти реку правее, там, где не было бродов. А Занга была в разливе и со страшной силой несла свои мутные волны. Он выбрал последнее. Но едва казаки стали спускаться к реке, как неприятель, заметив обходное движение, отступил и стал на другой позиции, за глубокой и быстрой речкой Абаранью, через которую бродов уже не было вовсе. Медлить атакой было, однако, невозможно. Донской подполковник Карпов, знакомый персиянам с Карасу-Башинского дела, во главе полка первый бросился вплавь.



