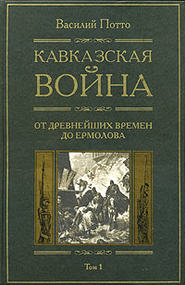 Полная версия
Полная версияКавказская война. Том 1. От древнейших времен до Ермолова
Тяжелые раны не заставили Котляревского сдать командование, и он с одра страдания продолжал распоряжаться отрядом. «Я сам получил три раны, -писал он в своем донесении главнокомандующему. -Благодарю Бога, благословившего меня запечатлеть успех дела моей собственной кровью».
Печально возвращались победоносные остатки отряда в Тифлис. Офицеры и солдаты, поникнув головами, без песен и со слезами на глазах, благоговейно шли за носилками, на которых лежал обезображенный и измученный страданиями любимый вождь их. Лицо его все сведено было на сторону, правого глаза не было, челюсть раздроблена, и из уха торчали разбитые черепные кости. Полумертвого привезли его в Тифлис. Главнокомандующий в полной парадной форме и в Александровской ленте, полученной им за асландузскую победу, немедленно отправился к больному, а скоро он имел удовольствие поздравить Котляревского с орденом св. Георгия 2-ой степени – наградой, необычайной на тридцать первом году жизни.
Ближайшим последствием ленкоранского штурма был Гюлистанский мир.
И современники, и потомки не могли не оценить доблестной личности Котляревского и его изумительных подвигов. Даже величавые и грозные события 1812 года не затмили славных побед, одержанных им на отдаленных азиатских границах. И противоположное, если бы оно было возможно, было бы глубокой неблагодарностью. «Кровь русская, пролитая в Азии, на берегах Аракса и Каспия, не менее драгоценна, чем пролитая в Европе, на берегах Москвы и Сены, а пули галлов и персиян причиняют одинаковые страдания». Так сказал сам Котляревскии.
Позднейшие историки с удивлением останавливаются на славных деяниях Котляревского. Один из военных русских писателей справедливо замечает, что, «читая про подвиги войск во время первой персидской войны в Закавказье, можно подумать, что читаешь жизнеописания величайших героев древнего Рима и Греции».
Еще большим энтузиазмом дышит отзыв о штурме Ленкорани знаменитого писателя, безрукого инвалида, Ивана Никитьевича Скобелева. "Этот молодец, – говорит он про Котляревского, – бывший начальником числом слабого, но, как порыв бури, грозного отряда, затеял овладеть бусурманской крепостью Ленкоранью. У Котляревскогоо стояло в строю всего полторы тысячи человек, но ребята были залихватские! Режь – кровь не капнет! С этим богатырским, разудалым намерением отряд приблизился к крепости. Котляревскии лишь взглянул – смекнул. «К штурму, товарищи!» – гаркнул молодец. Солдаты встрепенулись, перекрестились и вихрем понеслись на крепостную стену, но, увидев пятерых против одного, оробели, позамялись… Ахти, плохо! Котляревскии, зная дело до подноготной и ведая, что каждый миг раздумья приносит гибель, тотчас решил купить победу собственной жизнью. Решил – и с быстротой стрелы небесной русский генерал явился на крепостной стене первым. Ну, какая же крепость не падет после этого к подножию царского трона…
Ура, Котляревскии! Ты обратился в драгоценный мешок, в котором хранятся в щепу избитые, бесценные, геройские твои кости. Но ты жестокими муками своими и теперь продолжаешь еще служить государю с пользой, являя собой достойный подражания пример самопожертвования воина и христианина. Долго, долго бы прожил Котляревскии, если бы только солдаты могли выкупить дни его своими годами!.."
Вспомнил про Котляревского, спустя сорок два года после Ленкорани, и новый наместник кавказский, генерал-адъютант Муравьев, когда, приветствуя войска Кавказского корпуса, он указывал им на славные предания прошлого. "Среди вас, – говорил главнокомандующий в своем приказе, – возрос и прославился герой Котляревскии. Пусть имя его всегда будет в памяти и сердце вашем как пример всех военных доблестей.
Воин-христианин, строгий к себе, Котляревскии был строг и к подчиненным, уклоняющимся от исполнения своего дела. Он любил и оберегал солдата, сам разделял с ним трудности и лишения, неразлучные с военным бытом. Он не пренебрегал строем; в дисциплине он видел залог нравственной силы, а потому и успеха, и войско понимало и любило его. С именем Котляревского передало оно потомству имена Ахалкалаков, Асландуза и Ленкорани, где с малыми силами поражал он сильных врагов.
Благоговея перед правилами Котляревского, среди вас, воины Кавказа, буду искать ему подобных – и найду их!"
Но ленкоранский победоносный штурм был тот предел, за который не суждено было перейти доблестным подвигам Котляревского. Тяжелые, неизлечимые раны заставили его выйти в отставку и поселиться около Бахмута, в селе Александрове. Для скорбной жизни его молитва становилась лучшей отрадой; он на собственный счет выстроил церковь и перевел в нее из родной Ольховатки престарелого протоиерея, своего отца, который и дожил с сыном до глубокой старости. Для александровского героя началась жизнь тихая, мирная, спокойная, однообразная и молчаливая.
Был момент, когда Котляревскому еще раз представлялся случай воротиться к победному поприщу. При самом начале персидской войны, в 1826 году, император Николай произвел Котляревского в чин генерала от инфантерии и приглашал его принять на себя командование войсками против знакомых ему персиян. «Уверен, – писал ему государь, – что одного имени вашего достаточно будет, чтобы воодушевить войска, вами предводительствуемые, устрашить врага, неоднократно вами пораженного и дерзающего снова нарушить тот мир, к которому открыли вы первый путь вашими подвигами».
Но Котляревский, изнемогавший от страданий, не мог исполнить державной воли, и командовать войсками против персиян был послан генерал от инфантерии Паскевич. Впоследствии, уже за несколько дней до кончины, в кругу своих близких и родных, Котляревский приказал принести высочайший рескрипт, приглашавший его на службу, и шкатулку, от которой ключ всегда хранил у себя. В шкатулке оказалось сорок костей, вынутых после Ленкорани из его головы, которых он до сих пор никому не показывал. «Вот, – сказал он, указывая на кости, – что было причиной, почему я не мог принять назначение государя и служить до гроба престолу и отечеству… Пусть они останутся вам на память о моих страданиях».
Чтобы иметь понятие о жестоко-мучительной жизни, которую вел в течение тридцати девяти лет Котляревский, довольно сказать, что он мог дышать свежим воздухом только летом, в теплую погоду, а зимой не выходил из комнаты. Уединение разделял с ним до самой смерти сослуживец его, раненый при Асландузе, майор Шультен, который впоследствии женился на его племяннице. Представители прошедшего славного времени, оба изувеченные воина, принимали до конца живое юношеское участие во всем, что касалось родины их славы, Кавказа.
В 1838 году, по совету медиков, Котляревский переселился на южный берег Крыма и, приобретя близ Феодосии мызу «Добрый Приют», провел там остаток своих дней молчаливо и безропотно.
Так наступил 1851 год, когда жизнь его начала видимо погасать. Он сознавал это, но сокрушался лишь о том, что не мог достаточно отблагодарить свою двоюродную племянницу, которая безотлучно находилась при нем в течение нескольких лет. Тогда мелькнула у него мысль жениться на ней и этим путем оставить ей право на получение пенсии вдовы генерал-аншефа. Он написал военному министру и, получив разрешение, назначил венчание на девятнадцатое октября, день асландузской победы, который он считал счастливейшим в своей жизни. Но смерть была уже близка. Десятого октября он еще принимал у себя кавказского наместника князя Михаила Семеновича Воронцова, который, несмотря на бурю, свирепствовавшую на Черном море, заехал в Крым, чтобы повидать своего старинного друга; но с этого дня болезнь стала делать быстрые успехи. Девятнадцатого числа Котляревский был уже так слаб, что не мог ехать в церковь, а совершить обряд на дому воспрещали правила церкви. Он приходил в отчаяние и, ломая руки, твердил одно: «Боже мой, Боже мой! Я сойду во гроб неблагодарным»[56]. Двадцать первого числа, в одиннадцать часов ночи, он с трудом приподнялся на постели и попросил, чтобы его пересадили в кресло. Но едва это исполнили, как Котляревский перестал говорить и тихо скончался.
Тело Котляревского покоится в «Добром Приюте», в саду, за небольшой решеткой. С ним рядом похоронен Шультен, который и после смерти остался неразлучно верен своему начальнику и другу, а недалеко от этих могил, как бы убаюкивая их мирный сон, плещут волны Черного моря.
Но эта тихая могила невольно напоминает другую могилу, переносит вас на берега другого моря, к грозным твердыням Ленкорани, где в Котляревском умер воин и вождь. А между двумя этими морями возвышается Кавказ, и на нем, как на громадном, незыблемом памятнике глубоко врезано имя Котляревского.
Мысль почтить память героя достойным его имени монументом на той земле, где он провел свои последние страдальческие годы, давно уже зародилась среди феодосийских граждан и наконец приведена в исполнение знаменитым художником, профессором Айвазовским. Он составил проект памятника и выбрал для него живописное место на высоком холме, откуда открывается чудный вид на город и на море. Памятник представляет и молитвенный дом, и вместе с тем музей феодосийсих древностей. Передний фасад его украшен большой колоннадой, а боковые продолговатыми окнами, расположенными почти под самым карнизом, так что вся внутренность здания освещается сверху. Над фронтоном водружен позолоченный крест, а внутри все здание делится на две половины. В передней части, где помещается часовня, к востоку стоит икона апостола Петра, на север -большой прозрачный Георгиевский крест как символ доблестной службы кавказского героя, а к югу -портрет Котляревского, писанный искусной кистью самого Айвазовского. Задняя половина здания обращена в музей, вмещающий в себя феодосийские древности; здесь же находятся несколько превосходных картин Айвазовского, принесенных художником в дар своей родине.
Заложение часовни торжественно совершилось пятого июля 1870 года. Преосвященный епископ херсонский, желая речью воскресить в памяти присутствовавших боевые заслуги и светлые страницы жизни покойного кавказского героя, сказал прекрасные и глубоко знаменитые слова: «Многу славу созда нам Господь его ради».
ЧЕРНОМОРСКОЕ ВОЙСКО
В самом конце восемнадцатого века на Кавказе появляется новый, сильный и оригинальный деятель в начавшей тогда крепнуть и разгораться борьбе России с горскими племенами. Это была старая Запорожская Сечь, силой обстоятельств брошенная далеко от родины на берега бурливой Кубани и ставшая лицом к лицу с детьми суровой природы, где в горах и ущельях
Кликом воли… неслисьИ земли и небес голоса…В то время, когда русско-кавказские пределы еще только перешагнули горы, и там, в Грузии, возникал новый центр войн и мирной деятельности, северные предгорья Кавказа все еще не имели крепких границ, которые могли бы служить оплотом от вторжений. Стародавний ряд казацких поселений шел по Тереку, достигая верховьев Кумы; Гудович переселил на Кубань донцов, основавших там ряд станиц до устьев Лабы. А за Усть-Лабинской станицей, вниз по течению Кубани, вплоть до самого моря, оставались привольные, но пустынные степи, расстилавшиеся к северу до самого Дона и оставшиеся, после выселения из этих мест Суворовым ногайских татар, почти совершенно без населения.
Но стоит только взглянуть на карту этого края, чтобы оценить всю необходимость для России укрепления за собой всего течения Кубани. К югу от низовьев этой реки простирались земли черкесов-адыге, расположившиеся на понижавшихся и сравнительно узкой полосой идущих горах Кавказа, за которыми в близком расстоянии шумело Черное море, с грозными на побережье его турецкими крепостями – Анапой, Суджук-Кале и другими. Самые устья Кубани и Таманский полуостров, только узким Керчь-Еникольским проливом отделяющийся от Крыма, лежали между Анапой и русскими землями и были так необходимы для безопасности последних, что заселение всего этого края представлялось бы при самых неблагоприятных обстоятельствах вопросом лишь времени. И уже в 1794 году, одно десятилетие спустя после выселения ногайцев и только два года после водворения на Кубани донцов, казаки Запорожья под именем Черноморского войска появляются на низовьях Кубани, предводимые Чепегой и Головатым. Но Черноморское войско странным образом подчинено было не начальникам Кавказской линии, а херсонскому генерал-губернатору, и составило, подобно Грузии, особый центр борьбы с горцами до самых времен Ермолова, когда и Линия, и Грузия, и Черноморское войско соединились в единстве действий.
I. ЧЕПЕГА И ГОЛОВАТЫЙ (Запорожцы на Кубани)
В последние годы своего бурного существования Запорожская Сечь выдвинула двух замечательнейших людей, своим умом и энергией много содействовавших мирному переселению казаков на привольные прикубанские степи; это были атаман Харько Чепега и войсковой судья Антон Головатый.
История Головатого есть история последних дней Запорожья и борьбы его за свои вековые вольности. Запорожье ему обязано бесконечно многим, но он был истым сыном Сечи, без нее он непонятен и немыслим. Чуть ли не с самых первых дней самостоятельной жизни он уже является типичным представителем знаменитого запорожского «лицарства» и даже попадает в Сечь традиционным побегом в нее.
Племянник кошевого судьи, Головатый учился в киевской академии, где воспитывались дети знатных малороссов, но сидя над изучением Овидия и Цицерона, он, как и все, мечтал о воле и Сечи с ее войнами и бесконечным разгулом. И вот однажды, гуляя по Киеву с несколькими товарищами, Головатый увидел несшийся вниз по реке чей-то сорванный половодьем долбленый дуб – одно из тех ветхих суден, на которых запорожцы пускались даже в открытое море и добирались до берегов Анатолии. Не долго раздумывая, бурсаки перехватили дуб на рыбацком челне, втащили его в камыш и той же ночью, взяв по краюхе хлеба и сбросив свои долгополые бурсацкие свиты, пустились с весенними водами искать себе доли и воли в той заповедной и заманчивой Сечи, «откуда разливались воля и казачество на всю Украину».
Сечь всегда и для всех стояла растворенной настежь, и единственным условием для поступления туда была православная вера, да разве еще иногда принимаемого заставляли показать свое удальство, переплыв днепровские пороги против течения.
Головатый с товарищами проделали обычную церемонию приема, так характерно описанную Гоголем.
«Здравствуй! Что, во Христа веруешь? – Верую. -И в Троицу святую веруешь? – Верую. – И в церковь ходишь? – Хожу. – А ну, перекрестись… Ну, хорошо, ступай же, в который сам знаешь, курень».
Головатый поступил в Кощевский курень, а через пять лет мы видим его уже полковым старшиной и правящим должность войскового писаря, то есть, говоря по-нынешнему, должность начальника штаба Запорожского войска.
Для Запорожья наступали тогда трудные времена. Сами запорожцы сознавали, что с покорением Россией Крыма и Новороссии Запорожская Сечь, в течение двух веков охранявшая южные пределы Украины, теряла свое прежнее значение и что, напротив, необузданная гайдамацкая вольница, не признававшая никаких договоров, могла быть только неприятна России своими набегами на Турцию и Польшу, ежеминутно угрожая втянуть ее в новые войны с соседями. И русское правительство, исподволь употреблявшее все меры, чтобы прекратить этот дикий казацкий разгул, но скоро увидевшее всю бесплодность своих усилий обратить казаков к мирному быту, решило наконец навсегда покончить с существованием Запорожья. Заклятые сечевики, разумеется, не могли и помыслить о том, чтобы расстаться со своими вековыми вольностями и преданиями, и чуя приближение чего-то недоброго для себя, сумрачно косились на вышку Новосеченского ретраншемента, где, за насыпью и частоколом, в кошевой крепости, как бы для охраны Сечи, незадолго перед тем поселился русской комендант Норов.
Начался ряд казацких делегаций в Петербург с целью избежать беды и по возможности выгородить мирным путем свои вековые права. Первые две делегации, в которых участвовал и Головатый, были предприняты с целью добиться уничтожения сербских поселений на земле Запорожского войска. Тогда сербы были в моде, и Головатый успеха не имел: его осыпали ласками, хвалили заслуги и верность храброго Запорожского войска, но тем не менее посланцы Запорожской рады оба раза возвращались в Сечь ни с чем. Однако же и неудачные поездки в Петербург принесли Головатому огромную пользу: он ознакомился со столичными придворными порядками и заручился знакомством со многими вельможами.
В третий раз делегация, состоявшая из есаулов Сидора Белого, Логина Мошенского и войскового писаря Головатого, выехала из Коша в сильную слякоть и стужу в начале октября 1774 года и только в декабре добралась до Москвы, где тогда находился императорский двор. Но и там делегация встретила большие трудности. Напрасно 'Головатый добивался свидания с Потемкиным, который, в числе многих вельмож того времени, был записан в войско и числился в Кощевском же курене под именем Грицька Нечоса. Потемкин был поглощен другими делами, а без него депутаты ничего не могли добиться.
Выручило запорожцев остроумное слово одного из них. Однажды Потемкин случайно заехал к казакам в Новоспасский монастырь и не застал никого из них дома.
– Ну, кланяйся куренному батьке, – сказал Потемкин запорожскому сторожу, – да передай, что приезжал Грицько Нечоса благодарить за подарки, а особенно за коней, как за цугового, так и за верхового.
– Довезут, может, до Сената наши бумаги, – ответил запорожец.
Потемкин расхохотался. В тот же день этот ответ стал известен даже самой императрице, и Екатерина приказала немедленно заняться делом запорожцев.
Готовясь нести во дворец челобитную, войсковые делегаты оделись в белые суконные кунтуши с откидными рукавами, нацепили на себя отбитые у турок сабли и ятаганы, а из-под серых смушковых шапок выпустили свои длинные чубы – оселедцы. Все во дворе любовались их смуглыми хмурыми лицами, важностью сановитых движений и находчивыми ответами. Они торжественно вручили генерал-прокурору свою челобитную, смело прошли по анфиладе раззолоченных зал и, возвратись в монастырь, стали терпеливо ждать решения.
Головатый между тем успел добиться свидания с Потемкиным, который принял у себя делегатов запросто, как своих побратимов. Но то, что они от него услышали, было далеко не утешительно. Когда Головатый высказал претензию казаков насчет земель, отданных под Новую Сербию, Потемкин только покачал головой.
– Недаром ты, Антон, учился в киевской бурсе Цицерону и, подобно мне, думал даже поступить в попы, – сказал он. – Ты, как слышу, женился и держишь жену в зимовнике, а все завзятый и хитрый запорожец. О ваших претензиях я думаю иное.
– О чем ваша думка? – спросил, готовясь слушать, Головатый.
– А вот о чем, – ответил Потемкин. – Вы все, черти, молодцы, и нельзя вас не любить, только берегитесь! У всех вас одна думка: ослабили мы турку и ляха, как бы теперь и того дурня, москаля, в шоры убрать?.. Ведь так?
Делегаты молча и растерянно переглянулись.
– Ну, братцы, – продолжал Потемкин, – москаля вам в шоры не убрать, крепко брыкается бесов кацап! И лучше его не занимайте! Я сам разберу ваши бумаги, а вы тем временем заходите ко мне…
Видя, что дела их принимают дурной оборот, Головатый решился пойти на уступки, лишь бы спасти любимое Запорожье. Умный и дальновидный политик, он сознавал, что существование Коша с его старыми правилами и вольностями внутри государства уже немыслимо, и старался найти такую комбинацию, которая, ограничивая в известной мере эти права, в то же время не нарушала бы основных традиций Сечи. В этом смысле он составил проект нового положения о Запорожской Сечи, который и представил светлейшему, зная, что Потемкин любит и отмечает его за ум и находчивость. Но на этот раз Потемкин смотрел туча тучей и, не читая, отодвинул проект Головатого в сторону.
– Вы крепко расшалились, – сказал он, – и ни в каком виде не можете уже приносить пользы. Вот ваши добрые и худые дела.
С этими словами он подал Головатому толстую тетрадь, в которой перечислены были все хорошие и дурные дела Запорожья, размещенные в порядке друг против друга. Головатый сам после рассказывал, что все там было записано верно, и ни одно обстоятельство не было ни скрыто, ни ослаблено.
– Тiлькы, хитра писачка, що ж вiн зробив з нами? Худые дела Сечи написал строка от строки пальца на два и словами величиной с воробьев, а что доброго Сечь сделала, так то было написано часто и мелко, как будто усыпано маком, а оттого наши худые дела и заняли больше места, чем добрые.
Спустя некоторое время Головатый пришел по обыкновению к Потемкину, не предчувствуя готовившегося ему удара.
– Все кончено, пропала ваша Сечь! – сказал ему Потемкин.
Пораженный, не помня себя, Головатый запальчиво ответил:
– Пропала Сечь, так пропали же и вы, ваша светлость.
– Что ты врешь! – закричал Потемкин и так взглянул на Головатого, что тот, «смекнув, чем все пахнет», ответил ему:
– А вы же, батьку, вписаны у нас казаком, так коли Сечь пропала, то и ваше казачество кончилось! Уничтожение Сечи, действительно, было уже решено Потемкиным, и в то время как он балагурил со своими «побратимами», генералу Текелли, возвращавшемуся тогда с Дуная, уже послано было приказание вступить в Сечь и обезоружить казаков. Настал черный момент для Запорожья.
Чорна хмара наступаєЛибонь дощик буде,Вже ж нашего ЗапорiжжяДо вiку не буде,Бо цариця-мати нашаНапасть напустила -Славне вiйсько запорожськеТа й занапастила…Так описывает это событие казацкая песня.
Но делать было нечего, и делегаты отправились из Петербурга восвояси, не зная еще, где им придется преклонить свои буйные головы. Головатый ехал вместе с Сидором Белым, и оба они находились в таком настроении, что даже решили покончить с собой. Они зарядили два пистолета и условились, чтобы Головатый прочел вслух все ежедневные молитвы, и когда надо будет читать «Верую», то обоим приготовиться, а по слову «аминь» стрелять. Выбрав в лесу удобное место, они простились до скорой встречи в лучшем мире, где нет ни москалей, ни кацапов, и чтение молитв началось.
Вот уже Головатый дошел до «Отче наш» и до слов: «Но избави нас от лукавого», – как вдруг его озарила новая мысль. Он опустил пистолет и спросил у Белого:
– А знаешь що, батьку?
– А що?
– Вот се мы постреляемося.
– Эге.
– И нас тут найдут мертвых.
– Эге!
– И скажут: вот два дурня, запорожци, верно напилися мертвецки и пострелялись сами не зная чого, и никто не узнает, зачем мы пострелялись и не будет нам ни славы, ни чести, ни памяти.
– Так що ж робити? – спросил его Белый.
– А цур ему стреляться, батьку; поедемо дальше.
– Справды, цур ему, поедемо, – сказал Белый.
Помолились Богу, потянули горилки из дорожной баклажки и отправились в путь-дорогу, к родным куреням.
А родные курени стояли в развалинах. Часть казаков, не понимая иной жизни, кроме прежней казачьей, ушла до турка, за синий Дунай; другая, подчиняясь необходимости, повесила на гвоздь свои сабли и принялась за плуги. К последней пристал и Головатый со своими товарищами, не теряя надежды когда-нибудь воскресить на Украине былое вольное казачество. И случай к этому действительно скоро представился.
В 1780 году, спустя пять лет после уничтожения Сечи, Потемкин посетил Новороссию и мог на месте убедиться, что только имея значительную армию, и прежде всего казаков, можно было охранять ее обширные границы. Он вспомнил проект Головатого, поданный ему в Петербурге, и, зная хорошо быт, характер и свойства запорожцев, решил воспользоваться бездействующей мощной силой, чтобы вызвать ее к новой жизни и направить ко благу любимой Украины. Он начал с того, что, по званию царского наместника, учредил при себе почетный конвой из бывших запорожцев, под командой Головатого. В то же время он говорил открыто о намерении правительства восстановить казацкое войско и об выделении для его поселения новых мест между Днестром и Бугом. Молва об этом прошла по всей Малороссии, и старые сечевики стали отовсюду стекаться за Буг. Не прошло и года, как образовалось целое За-Бугское войско, названное «верным», в отличие от казаков, ушедших в Турцию. Сидор Белый, тот самый, что когда-то хотел стреляться с Головатым, стал «батькой кошевым», а сам Головатый был выбран в войсковые судьи – должность, которую так долго занимал в Сечи его родной дядя.
Служа теперь под непосредственным начальством могущественного гетмана, князя Потемкина, и пользуясь особым его расположением, казаки старались поддержать за собой старую славу, в то же время ревниво избегая всего, что могло бы навлечь на них даже случайное неудовольствие своенравного покровителя, в руках которого была их участь.
Рассказывают, что один из запорожских старшин, имевший чин армейского штабс-офицера, сделал какой-то крупный проступок, огорчивший Потемкина. Все ожидали грозы. Но светлейший призвал к себе Головатого и только сказал:



