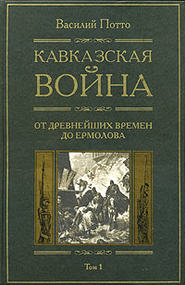 Полная версия
Полная версияКавказская война. Том 1. От древнейших времен до Ермолова
Желая ознаменовать победу делом, близким его доброму сердцу, Котляревский прежде всего ходатайствовал перед главнокомандующим о прощении одного храброго унтер-офицера, приговоренного судом к тяжкому наказанию за нарушение воинской дисциплины. Подобными поступками Котляревский умел навсегда привязывать к себе сердца солдат, ценивших в нем и строгость его правил, и милосердие там, где оно было уместно.
Котляревский не любил останавливаться на одном каком-нибудь подвиге, и к двадцатому декабря он покорил уже всю Ахалкалакскую область. Только тогда возвратился он в Тифлис, где ожидали его две лестные награды: генеральский чин на двадцать девятом году от рождения – ему, и георгиевские знамена – храбрым его батальонам.
Между тем, с отъездом Котляревского из Мигри, дела в Карабаге скоро пришли в такое расстройство, что Паулуччи нашел необходимым вызвать его из Тифлиса и снова поручить в его управление Карабагское ханство. Аббас-Мирза, уже кичившийся своими победами, узнав о прибытии в Карабаг Котляревского, спешил отступить за Араке. Котляревский очистил ханство от мелких разбойничавших шаек и, не довольствуясь этим, задумал сам вторгнуться в Персию, чтобы поразить неприятеля на собственной его земле. Эта отважная и хорошо обдуманная экспедиция не удалась только потому, что персияне уничтожили мосты на разлившемся тогда Араксе, и приходилось ограничиться действиями только по эту сторону реки. Тем не менее Паулуччи оценил кампанию с самой отличной стороны, и Котляревский получил за нее орден св. Анны 1-ой степени и тысячу двести рублей ежегодной ренты.
Наступил 1812 год. Персияне готовили решительный удар Карабагу и стягивали значительные силы к Араксу. Напрасно Котляревский писал рапорт за рапортом о необходимости наступательных действий, чтобы предупредить вторжение неприятеля. Ему отвечали, что персияне ведут переговоры о мире и что до окончания их главнокомандующий, генерал-лейтенант Ртищев, строжайше запретил начальникам отрядов какие бы то ни было неприязненные действия относительно персиян. Котляревский вынужден был подчиниться этому требованию, но он стоял настороже, не доверяя персидской политике и негодуя на вынужденное бездействие.
Между тем, в то самое время, как Аббас-Мирза и Ртищев переписывались между собой о мире, персияне продолжали набеги на русскую сторону споим чередом. Именно в это время на долю капитана Кулябки выпало выдержать упорный бой в селении Хензыряны. С шестьюдесятью егерями пятой роты семнадцатого полка и одним орудием, он был окружен четырехтысячным персидским отрядом, под начальством бежавшего из Карабага Гуссейн-Кули-хана, и дело кончилось тем, что персияне были разбиты наголову и бежали за Араке, а хан их очутился в плену. Главнокомандующий сам назначил Кулябке орден св. Владимира 4-ой степени, а нижним чинам отряда по одному рублю серебром.
Не довольствуясь этими набегами, персияне задумали тайно отправить значительную часть своей армии для покорения владений преданного России талышинского хана. Котляревский немедленно известил об этом главнокомандующего, прибавил в заключение, что если через пять дней он не получит ответа, то, невзирая ни на что, пойдет за Араке, «ибо, – писал он, – ежели Аббас-Мирза успеет овладеть Талышинским ханством, то это сделает нам такой вред, который невозможно будет поправить».
Ртищев, встревоженный этим рапортом, сам прибыл из Тифлиса с трехтысячным отрядом и стал на Араксе. Здесь он получил известие, что персияне действительно вошли в Талышинское ханство, взяли Ленкорань, а хан с немногими приверженцами нашел убежище в русском отряде. Котляревский просил генерала Ртищева воспользоваться сбором двух отрядов, чтобы атаковать Аббас-Мирзу посреди его лагеря. Ртищев не соглашался, опасаясь гибельных последствий неудачи, и предпочитал вести переговоры. Эти переговоры шли в Асландузе, и персияне соглашались на перемирие только в том случае, если русские войска будут отведены обратно за Терек. Мало-помалу между начальником и подчиненным возникли неудовольствия. Однажды в горячем споре Ртищев выразился, что трудно быть генералом в таких молодых летах, как Котляревский. Котляревский обиделся и просил уволить его от службы. Ртищев сухо ответил, что право просить об отставке предоставлено каждому дворянину. Тогда герой Ахалкалаков и Мигри тотчас уехал в лагерь, чтобы сдать команду над отрядом. По счастью, дело не дошло до подобной крайности, и Ртищев сам понял, какие последствия могла бы иметь потеря такого человека, как Котляревский.
– Я виноват, простите меня, Петр Степанович, -сказал он ему при первом свидании, – вы лучше меня знаете местные обстоятельства и самую сторону; делайте, что ваше благоразумие велит вам, но дайте мне только слово не переходить Араке.
Миролюбивое настроение нового главнокомандующего, в связи с грозной борьбой, которую вела Россия в Европе, его нерешительность и самая мягкость обращения с подвластными ханами возродили в последних слишком большие и пылкие надежды. Особенно Мехти-Кули-хан карабагский скоро забылся до того, что не только начал высказывать явное пренебрежение к русским, но даже не почтил самого главнокомандующего прощальным визитом, когда тот выезжал из Карабага обратно в Тифлис. Подобной обиды Котляревский не вытерпел. Очевидец рассказывает, как молодой генерал, в сопровождении только одного казака, во весь опор проскакал через город прямо на ханский двор, где Мехти-Кули-хан с восточной важностью сидел на тахте и курил кальян в окружении с головы до ног вооруженной челяди. Круто осадив лошадь перед самым ханом, Котляревский взмахнул нагайкой над его головой и крикнул по-татарски: «Я тебя повешу!»
В уверенности и храбрости есть что-то поражающее, не дающее противнику опомниться; вместо сопротивления, могущественный хан сконфузился, стал извиняться и тотчас же, навьючив большой караван, пустился в дорогу – догонять главнокомандующего.
С полной достоверностью можно сказать, что этот решительный поступок Котляревского, хорошо знавшего азиатские нравы, остановил в Карабаге уже готовое возмущение. Проводив начальника и арестовав множество карабагских беков, Котляревский остался один лицом к лицу с Аббас-Мирзой. Он не хотел нарушить данного Ртищеву обещания, но получая ежедневно известия, что персияне переходят Араке для мелкого хищничества, отправил к наследнику персидского престола письмо следующего содержания.
«Вы происходите от знаменитой фамилии персидских шахов, имеете между родными стольких царей и даже считаете себя сродни небесным духам; возможно ли, чтобы при такой знаменитости происхождения, зная всю малочисленность моего отряда, вы решились тайно воровать у него лошадей? После этого вам не прилично называться потомком столь знаменитого рода».
Аббас-Мирза не ответил на письмо, но войска его стали готовиться к походу. Котляревский понял, что они идут не в Карабаг, а в Шекинское ханство, откуда им было удобнее вторгнуться в Грузию, соединиться с лезгинами царевича Александра и, пользуясь восстанием в Кахетии, поднять против России все горские и татарские народы. И если бы это случилось, то полное уничтожение русского господства за Кавказом было бы вполне вероятно. Предотвратить опасность еще было возможно, но для этого нужны были уже не мелкие стычки, а один решительный удар в самое сердце персидского войска. Обсудив все положение дел, Котляревский решился исполнить со своими малыми силами то, на что генерал Ртищев не отважился при соединении двух русских отрядов.
– Братцы! – сказал он своим солдатам. – Нам должно идти в Араке и разбить персиян. Их на одного десять, но храбрый из вас стоит десяти; а чем более врагов, тем славнее победа. Идем, братцы, и разобьем!
В то же время он отдал приказ, в котором говорил, между прочим, что, «в случае его смерти, команду над отрядом должен принять старший штаб-офицер, и если бы случилось, что первая атака была неудачна, то непременно атаковать в другой раз и разбить, а без того не возвращаться и отнюдь не отступать».
Девятнадцатого октября отряд, в составе двух тысяч человек, при шести орудиях, на самой заре переправился через Араке и, свернувшись в каре, двинулся вперед, предшествуемый татарской конницей. В таком порядке отряд сделал довольно значительный обход и устремился прямо в тыл неприятелю, со стороны Персии. Рассказывают, что когда вдали, среди белого дня, показалась кавалерия Котляревского, Аббас-Мирза сказал сидевшему подле него английскому офицеру: «Вот, какой-то хан едет к нам в гости». Англичанин, посмотрев в зрительную трубу, передал ее Аббас-Мирзе и возразил хладнокровно: «Нет, это не хан, а Котляревский.» Аббас-Мирза смутился, но, желая скрыть это чувство, заметил с досадой, что «поросята сами лезут на нож». Вскоре он испытал, однако же, что на него нападают львы.
Внезапное появление русского отряда распространило в персидском лагере всеобщую панику. Когда же грянуло громовое «Ура!» и началась стремительная атака в штыки, персияне обратились в полнейшее бегство. Тридцать шесть фальконетов и весь персидский лагерь с большими сокровищами достались в руки победителям, но Котляревский уже помышлял о совершенном истреблении персидской армии.
Разбитый на Араксе, Аббас-Мирза в тот же день собрал свои силы в Асландузе, где находилось укрепление, построенное на высокой горе, при впадении в Араке реки Дара-Урты. Это место Котляревский и выбрал для своего решительного, последнего удара. Один из беглых солдат, добровольно явившийся в лагерь и представивший полковое персидское знамя, вызвался быть проводником и повел отряд с той стороны, где у персиян не было пушек.
«На пушки, братец, непременно на пушки!» -воскликнул пылкий Котляревский, опасаясь упустить из рук персидскую артиллерию. По дороге одно орудие увязло в яме, и Котляревский, не имея времени возиться с ним, приказал его бросить, сказав; «Его подберут после, если кто-нибудь вернется».
В глухую темную ночь персияне, еще не отдохнувшие от ужасов дневного побоища, вдруг снова увидели перед собой грозные лица русских гренадер. Грянуло то же победное «Ура!», и началось страшное кровопролитие. Это была для персиян ночь кары, когда и самые храбрые из них ужаснулись. Получив приказание не щадить никого, кроме самого Аббас-Мирзы, солдаты, страшно ожесточенные, кололи всех. Остатки персидской армии кинулись наконец в Асландузский замок, обнесенный палисадами и окруженный двумя глубокими рвами, но Котляревский быстро взял его штурмом, и сам Аббас-Мирза едва успел бежать в Тавриз, в сопровождении лишь двадцати человек из своего конвоя.
Все асландузское поле было буквально завалено персидскими трупами. По первым собранным сведениям Котляревский донес, что потеря персиян при Асландузе простирается до тысячи двухсот человек убитыми. Впоследствии он убедился сам, что число убитых врагов было в девять раз больше, но приказал не менять донесения. «Напрасно писать – все равно не поверят», – сказал он адъютанту, который настаивал на необходимости новой реляции.
Асландузская победа отдала в руки русских одиннадцать пушек английского литья, с надписью: «От короля над королями – шаху над шахами», и пять знамен. Знамена эти находятся ныне в Казанском соборе, и их можно отличить от множества других, там же находящихся, тем, что на древках вместо орла они имеют распростертую руку. Пленных взято пятьсот тридцать семь человек, обязанных жизнью только самому Котляревскому; в числе их находился и командир гвардейского полка Арслан-хан, известный на Востоке своим мужеством и храбростью.
Из отряда Котляревского выбыло три офицера и сто двадцать четыре нижних чина убитыми и ранеными. В числе тяжелораненых находился и потерявший ногу храбрый майор Грузинского полка Осип Иванович Шультен, который за год перед тем, как сказано выше, первым взошел на ахалкалакские стены.
История персиян, которая представляет обыкновенно хвастливо-фантастичный рассказ о небывалых победах, на этот раз признает полное поражение персидских войск. Вот как персидский историк рассказывает о двойной асландузской победе.
«Сам принц бросился к батареям, чтобы своим присутствием возбудить в них стойкость. Подобрав за пояс полы своего кафтана, принц собственноручно сделал несколько выстрелов из пушки и силой их губительного действия помрачил весь свет».
Тем не менее иранские воины, по сознанию историка, «почли за лучшее отступить для отдохновения на другую позицию», где ночью «свирепо-грозный» Котляревский сделал на них вторичное нападение.
"В эту мрачную и кровавую ночь, которая поистине была примером для Страшного Суда, замечательный и удивительный случай превратности судьбы проявил себя в армии Ирана. В самый разгар боя, когда принц, стараясь сделать сердца как простых воинов, так и офицеров пылкими к отражению неприятеля, лошадь его внезапно споткнулась в глубокую яму, отчего его высочество изволил свое благородство перенести с седла на землю.
Подумали, что принц, «подобный Александру Македонскому», погиб. Следствием чего, разумеется, было общее бегство, а между тем принц был невредим и только оставался в глубокой яме. Вдруг он заметил всадника, проезжавшего мимо и державшего на поводу оседланную лошадь. Приняв его за неприятельского кавалериста, принц смело обнажил свою саблю и задал ему вопрос, кто он такой. По непонятному стечению обстоятельств оказалось, что этот всадник был не кто иной, как собственный же стременной служитель его высочества, следовавший с запасной лошадью его особы. Услышав голос своего повелителя, всадник тот немедленно спешился и, посадив принца на коня, благополучно вывел его высочество на вершину высокой горы. Такое замечательное событие породило в войсках ретировавшейся армии неизъяснимую радость; спасшиеся от гибели сарбазы спешили сообщить друг другу увеселявшее сердце известие о счастливом избавлении принца. Его величество шах благоволил обнаружить принцу так много ласк и так много внимания, что в сердце иранца положительно не осталось и тени печали, порожденной впечатлением обстоятельств изложенного события".
Невозможно описать той гордой радости, с которой победоносный русский отряд приветствовал своего любимого вождя после кровавой победы. И он справедливо мог гордиться и ею, и своим вождем, умевшим вызвать в нем такие могущественные чувства чести и долга перед отчизной, которые вели к победам, подобным асландузской. Сам отряд был достоин такого предводителя, как Котляревский: он не знал отступления, и каждый солдат исполнял свой долг, пока имел силы. Котляревский и словом, и примером воспитывал в солдатах те чувства, которыми преисполнен был сам. Раненый, он не оставлял поля сражения; того же требовал и от подчиненных. Преступивших это правило он не наказывал, но он делал им больнее, стыдил их. В приказе об асландузской победе ярко отразилась эта черта вождя и его войск.
Торжество славной победы не заставило Котляревского забыть о маловажном, в сущности, обстоятельстве, несколько огорчившим его, и он выставил на всеобщий позор повсюду допускаемое уклонение от идеальных предписаний долга, но которого не хотели терпеть в тогдашних кавказских войсках. «Насколько мне приятно отдавать справедливость и благодарить достойных, – между прочим писал Котляревский в этом приказе, – настолько же прискорбно сказать, что в числе отряда оказались и такие, которых проступки совсем противны чести русского офицера; но как справедливость начальника должна быть ко всем равна, то я не могу умолчать и об этом; Севастопольского пехотного полка майор Письменский посрамил свое звание: девятнадцатого числа он был только контужен, а сказался больным».
Главнокомандующий узнал о переходе Котляревского через Араке только тогда, когда получил донесение его, начинавшееся известными словами: «Бог, „Ура!“ и штыки даровали победу Всемилостивейшему Государю!..» Ртищев читал этот рапорт со слезами на глазах и, сознавая вполне всю важность совершившихся событий, просил государя о награждении Котляревского: за поражение персиян на Араксе – чином генерал-лейтенанта, а за Асландуз – орденом св. Георгия 3-ей степени. Государь исполнил желание Ртищева, но в то же время послал и самому главнокомандующему орденские знаки св. Александра Невского. Ртищев их принял с глубокой признательностью и говорил всегда, что этой монаршьей милостью он был обязан Котляревскому.
Как ни велико было значение асландузской победы, однако же расчеты с Персией еще не могли считаться поконченными, пока войска ее оставались в Талышинском ханстве, и в декабре с тем же самым отрядом Котляревский уже шел к Ленкорани. Он чувствовал, однако же, по его собственным словам, что в жизни его наступает решительная и роковая минута; необъяснимые предчувствия смущали его душу, и он более обыкновенного был задумчив и мрачен.
С большим трудом отряд миновал снежную Муганскую степь и двадцать шестого декабря подошел к Ленкорани. Ленкоранская крепость, от которой ныне не осталось даже следов, в те времена, по свидетельству очевидцев, производила поражающее впечатление своими высокими каменными стенами, увенчанными целым рядом зубцов, из-за которых повсюду смотрели грозные жерла орудий.
Котляревский, желая избежать напрасного кровопролития, отправил коменданту письмо, прося сдать Ленкорань без боя. «В противном случае, – писал он, – я не отступлю от крепости, покорю ее, и горе побежденным!» Комендант ответил отказом.
«Тогда, – говорит Котляревский, – мне остался выбор только между победой и смертью, ибо отступить от крепости значило бы посрамить честь русского оружия и имени».
Готовясь к битве на жизнь и смерть, Котляревский отдал по отряду приказ, который навеки останется примером энергичной решимости и силы, поражающим воображение и вызывающим гордость в сердце каждого истинного русского воина своими вечно неумирающими словами: «Отступления не будет».
Приводим дословно как его, так и диспозицию, положившую основание для первых действий геройского штурма.
Приказ по отряду 30 декабря 1812 года
Истощив все средства принудить неприятеля к сдаче крепости, найдя его к тому непреклонным, не остается более никакого способа покорить сию российскому оружию, как только силою штурма.
Решаясь приступить к сему последнему средству, даю знать о том войскам и считаю нужным предварить всех офицеров и солдат, что отступления не будет. Нам должно или взять крепость, или всем умереть, за тем мы сюда присланы.
Я предлагал два раза неприятелю сдачу крепости, но он упорствует. Так докажем же ему, храбрые солдаты, что русскому штыку ничто противиться не может. Не такие крепости брали русские и не у таких неприятелей, как персияне; сии против тех ничего не значат. Предписывается всем: первое – послушание; второе – помнить, что чем скорее идем на штурм и чем шибче лезем на лестницы, тем меньше урону; опытные солдаты это знают, а неопытные поверят; третье – не бросаться на добычу под опасением смертной казни, пока совершенно не кончится штурм, ибо прежде конца дела на добыче солдат напрасно убивают. Диспозиция штурма дана будет особо, а теперь остается мне только сказать, что я уверен в храбрости опытных офицеров и солдат Грузинского гренадерского, семнадцатого егерского и Троицкого полков, а малоопытные каспийские батальоны, надеюсь, постараются показать себя в сем деле и заслужить лучшую репутацию, чем доселе между неприятелями и чужими народами имеют. Впрочем, ежели, сверх всякого ожидания, кто струсит, тот будет наказан, как изменник, и здесь, вне границы, труса расстреляют или повесят, несмотря на чин.
Диспозиция штурма крепости Ленкорани
Составляются три колонны: первая – из шести рот Грузинского гренадерского полка, под командой полковника Ушакова; вторая – из трехсот пятидесяти человек Троицкого полка; третья – из трехсот тринадцати человек семнадцатого егерского полка и тридцати семи человек гренадер, под командой майора Терешкевича. В пять часов по полуночи колонны выступают с назначенных им пунктов, имея впереди стрелков, и следуют к крепости с крайней тишиной и скоростью; если неприятель не откроет огня, то стрелки отнюдь не стреляют, когда же от неприятеля будет сильный огонь, то стрелки тотчас бьют по неприятелю, а колонны наипоспешнее ставят лестницы и взбегают на батарею и на стены: первая колонна штурмует батарею и стену к Гямушевану, ставя одну лестницу на батарею, а прочие тотчас от оной вправо; третья колонна, Терешкевича, берет батарею, лежащую против моря к речке, и штурмует стену от оной вправо. Каждая колонна, как скоро возьмет назначенную ей батарею, тотчас поворачивает неприятельские орудия и стреляет картечью в середину крепости, между тем очищают стены от себя вправо и влево, а первая колонна отбивает поспешнее ворота, дабы впустить резерв; одна рота Грузинского гренадерского полка разделяется на две части для фальшивых атак: первая делает оную против батареи, к речке лежащей, и ежели возможность будет, то берет сию батарею, другая против батареи неприятельской, назначенной штурмовать; первой колонне тревожить неприятеля с левой стороны. Команды сии выступают вместе с колоннами и не тревожат неприятеля, пока не откроется сильный огонь по колоннам, тогда они поспешнее бегут к назначенным местам, кричат «Ура!» и бьют тревогу.
Барабанщики в колоннах отнюдь не бьют тревогу, пока не будут люди на стенах, и люди в колоннах не стреляют и не кричат "Ура!, пока не влезут на стену. Когда все батареи и стены будут заняты нами, то в середину крепости без приказания не ходить, но бить неприятеля только картечью из пушек и ружей. Не слушать отбоя – его не будет, пока неприятель совершенно истребится или сдастся, и если, прежде чем все батареи и все стены будут заняты, ударят отбой, то считать оный за обман, такой же, как неприятель сделал в Асландузе; сверх того, знать, что наши отбои будут бить три раза, который повторять всем барабанщикам, и тогда уже прекращается дело.
Резервом на прежних батареях состоять из остающихся от штурма людей; так как уже сказано в приказе, что отступления не будет, то остается теперь сказать, что если, сверх чаяния, которой либо колонны люди замкнутся идти на лестницы, то всех будут бить картечью.
Генерал-майор Котляревский.Штурм начался в ночь с тридцатого на тридцать первое декабря 1812 года. В пятом часу утра войска молча вышли из лагеря, но, еще далеко не дойдя до назначенных пунктов, были уже встречены артиллерийским огнем неприятеля. Не отвечая на выстрелы, солдаты спустились в ров и, приставив лестницы, быстро полезли на стены. Закипела ужасная битва. Передние ряды штурмующих не удержались и были сброшены, многие офицеры, и между ними подполковник Ушаков, убиты, а число персиян на стенах между тем быстро увеличивалось. Тогда Котляревский, видя смятение отряда, сам бросился в ров и, став над телом Ушакова, ободрил людей несколькими энергичными словами. В это время пуля попала ему в правую ногу. Придерживая рукой колено, он спокойно повернул голову и, указав на лестницы, громко крикнул: «Сюда!» Воодушевленные солдаты снова кинулись на приступ. В это мгновение две пули поразили вождя в голову, и он упал полумертвым.
«Но в ту минуту, как силы меня оставляли, – говорил впоследствии сам Котляревский, – я, как бы в сладком сне, слышал высоко над своей головой победное „Ура!“, вопли персиян и их мольбы о пощаде».
Штурм был необыкновенно кровопролитен; персидский историк так описывает его:
«При штурме Ленкорани бой был так горяч, что мышцы рук от взмахов и опусканий меча, а пальцы от беспрерывного взвода и спуска курка в продолжение шести часов сряду были лишены всякой возможности насладиться отдохновением».
Наконец крепость была взята после трехчасового страшного боя, в котором особенно энергично и удачно действовали первая и третья колонны, под начальством храбрых майоров: Грузинского полка -князя Абхазова, и семнадцатого егерского полка -Терешкевича. К сожалению, последний получил смертельную рану и умер через десять дней, не дождавшись креста св. Георгия, к которому был представлен. Абхазов, заступивший в командование первой колонной вместо убитого подполковника Ушакова, получил за штурм орден св. Георгия 4-ой степени; заступивший же вместо Терешкевича майор Дьячков, как имевший уже Георгиевский крест за асландузскую победу, назначен в чине майора командиром семнадцатого егерского полка.
Комендант Ленкорани Садых-хан и с ним десять других ханов честной смертью искупили свое упорство и пали вместе с гарнизоном на стенах крепости. С русской стороны потеря простиралась до тысячи человек, что составляло более двух третей всего отряда.
Котляревский был разыскан уже после сражения в груде убитых, и только благодаря искусству и неусыпным стараниям полкового доктора Грузинского полка остался в живых. Признательный Котляревский никогда не забывал этого, доктора; он тут же назначил ему пожизненную пенсию и, несмотря на собственную нужду, впоследствии, в течение всех тридцати девяти лет своей жизни, прежде всего отделял и отсылал ему пенсию всякий раз, как получал свое небольшое содержание. Доктор пережил своего благодетеля.



