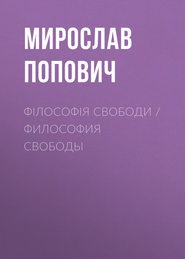скачать книгу бесплатно
Храм был средоточием и строительного искусства, и живописи, и книжного дела, и музыки – всюду развивались новые направления культуры, пришедшие вместе с письменностью и христианским религиозным культом. Наиболее тесно связан со службой художник. Храм должен быть расписан и украшен мозаикой и фресками, иконами и орнаментом, иллюстрирующими веру и священную историю, как будто храм – это книга. Стены покрыты фресками, изображающими множество людей церкви, которые смотрят на верующих своими огромными византийскими глазами. При этом церковная живопись должна говорить не от имени художника, а сама по себе, от имени Церкви и Господа. Не образ святого в иконе должен быть похож на реального святого, а реальный святой – на свой образ. Не вполне понятными сегодня путями эта эстетика привела к «обратной перспективе».
Церковь Богородицы. Пирогощи. Современный вид
Согласно с христианской легендой, первая икона – Спас Нерукотворный – появилась на свет не от кисти художника, а Божественной волей на полотенце, которым лик Христа был покрыт после распятия. А первые иконы Божьей Матери будто бы написаны евангелистом Лукой, который и задал стандарты её образов. Искусство живописи приобрело в иконописи чисто анонимный и догматический характер. Техника и каноны иконописи были детально расписаны Никейским Вселенским собором 787 г., и изменения и новации допускались только по разрешению Константинопольского патриарха. Иконописцев учили, как, в какой позе, в какой одежде, какими красками рисовать того или иного святого; художественная фантазия была скрупулёзно ограничена. Личность иконописца тщательно стиралась; категорически запрещено было подписывать иконы именем художника.
Всё это должно было бы начисто лишить иконопись чувства и динамики. Однако в рамках канона создавались и лишённые вкуса ремесленные изделия, и труды, отмеченные печатью гениального ощущения гармонии линий и цветов. Ограниченное число средств, оставленных церковью художнику, только обостряло потребность в их выразительной и эстетической реализации, и фактически язык живописи не оставался стандартным – и в византийских центрах, и на «варварской» периферии возникали веяния моды и изменения стилистики.
Спас Нерукотворный.
Новгородская икона. XII в.
Седьмой (Второй) Вселенский собор.
Икона. XVII в. Новодевичий монастырь
Мастерству иконописи учили главным образом в монастырях, и роль Киева здесь была главной. Из первых созданных на Руси икон сохранилась только икона Божьей Матери «Великая Панагия» работы художника Алипия или Алимпия или его школы, выполненная, по преданию, в середине XI ст. в Печерском монастыре. Массовое производство способствовало некоторой «варваризации» иконы и проникновению в неё народных мотивов. Однако это больше касается Севера; в Киевской школе, остававшейся образцом иконописи, традиции Константинополя и общее «грекофильство» было более ощутимо.
Алипий Печерский
С учётом привязанности культуры к культу следует говорить и о книжной культуре Руси. Авторитет книги и искусство её изготовления были очень высокими. Книга считалась священным предметом, её нельзя было выбрасывать, когда она приходила в негодность; книгу укладывали в гроб к покойнику, как и оружие. Книги оформлялись как художественные изделия, становились сокровищами и сохранялись в церквях как самое дорогое имущество наряду с иконами. До наших времён дожили народные представления о том, что первые книги спущены на землю Богом, и тот, кто прочитал Библию до конца, постигает божественную мудрость и может предвидеть всё наперёд. С другой стороны, считалось, что такой человек теряет разум (это, впрочем, не противоречит божественному дару предвидения, ибо безумие отождествлялось и с излишком разума).
Киев был центром книгописания в домонгольской Руси. Из книг, на которых указан год написания, самой древней является Остромирово Евангелие (1056—1057), созданное по заказу Новгородского посадника Остромира киевскими каллиграфами и иллюминаторами (иллюстраторами-миниатюристами). Вторым (из сохранившихся) по старшинству является «Изборник Святослава» (1073), выполненный мастерами книжного дела по заказу Киевского князя. Помимо церковной литературы, изготовлялись и читались в домашнем кругу апокрифические рассказы, патерики (отечники – рассказы о жизни отцов церкви), летописи, хроники, большие исторические повести («Девгениевы деяния», «Иудейская война» Иосифа Флавия, «Александрии» – романы об Александре Македонском и т. д.).
Остромирово Евангелие. Лист 2
Особое значение имели хроники, т. н. летописи, возникшие из подражаний греческим произведениям, прежде всего «Хроникам» Георгия Амартола. Согласно гипотезе А. А. Шахматова, в 70-х гг. XI ст. одним из основателей и игуменов Печерского монастыря Никоном Великим, а в 90-х гг. – его продолжателем печерским игуменом Иоанном создан «Начальный свод» летописей, откуда происходит «Повесть временных лет» печерского же монаха Нестора (точнее, её первая редакция). Это произведение стало протографом (образцом, первоисточником) для летописей как южного, древнеукраинского, так и северо-восточного, древнерусского (владимиро-суздальского) круга. Из древнеукраинских рукописей сохранились лишь фрагменты, включённые в некоторые летописи. Фрагменты древнеукраинских рукописей в северной передаче находим в тексте, переписанном в 1377 г. монахом Лаврентием по заказу суздальско-нижегородского князя («Лаврентьевская летопись» – вторая редакция «Повести временных лет», единственный список которой находится в Библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге). Третья редакция «Повести» включена в летопись Ипатьевского монастыря (около Костромы) вместе с Киевской и Галицко-Волынской летописями (список изготовлен в XV ст., хранится в Библиотеке РАН в Москве).
Лаврентьевская летопись. Фрагмент
Летописи не предназначались для широкого чтения, но тем не менее редактировались по отнюдь не церковным мотивам – сообщения о событиях тщательно отбирались, а истолкование их в целом ряде случаев несёт очевидную печать редакции в местных княжеских интересах. Однако морализаторство летописцев не имеет ничего общего с привычной для нас публицистикой: летописцы не требуют действия, они указывают на грех и призывают к покаянию. В летописи нет ни комментариев к фактам, ни связных рассказов о последовательности событий, ни реконструкций прошлого, ни причинных объяснений: образ истории даётся как бы в обратной перспективе, подчиняясь тем же законам, что действуют в иконописи, что дало повод В. Лопахину назвать летописание «иконой всемирной истории»[112 - Лопахин В. Летопись как икона всемирной истории // Вестник РХД. 1995. № 171.].
Таким образом, культура Киевской Руси – мы можем так её называть и потому, что центром её, хранителем традиций и источником новаций был Киев – связана воедино и в церковной, и в светской её частях общими принципами видения и воспроизведения мира. Это было бы невозможно, если бы привнесённая из Нового Рима вместе с религией культура не нашла опоры в местных культурных традициях.
Проследить такую связь можно и через неортодоксальное восприятие основных тем христианского вероучения, нашедших выражение в посвящениях соборов и в апокрифической литературе. Как говорилось, соборы Св. Софии посвящались не христианской святой – матери Веры, Надежды и Любови, а Богородице как Дому Мудрости (софийности), носящей Логос – Христа во чреве своём. Столь высокая абстракция связана скорее с платонистскими толкованиями Дома Христова, и дальнейшее церковное строительство требует более близких русину абстрактных конструкций. Такую схему представляет образ Успения Божьей Матери – образ апокрифический, так как в канонических евангелиях о Пресвятой Деве Марии не сказано почти ничего. На Руси была распространена апокрифическая легенда «Успение Марии», в поздних российских изданиях названная «Хождение Богородицы по мукам». Легенда рассказывала о путешествии Богоматери в ад и об её заступничестве перед Богом за грешников, осуждённых на вечные муки. Матерь Божья невыразимо страдала после посещения ада, сочувствовала грешникам, очень исхудала и в конце концов тихо отошла в вечность. Мотив смерти – преображения из «тварного» образа в духовный – связывается здесь с очень древним мотивом путешествия через «страну мёртвых», существовавшим в мировой культуре в различных вариантах, в частности в мифе об Орфее. Тема путешествия через «страну мёртвых» была распространена и в славянской мифологии, отразившись потом в сказочных сюжетах. В сущности, этот мотив доживает до Нового времени в образах «заветов» или «памятников себе», являющихся обращением автора к далёким потомкам, которые могут воспринять его только в будущем, через его собственную смерть.
Непосредственно связана с каноническими евангельскими текстами очень популярная среди клира и верующих тема Спаса, или Преображения Христа на горе Фаворской, отражённая в именах множества соборов. Преображение Христа из тварного человеческого существа в Бога со зримым признаком небесной харизмы – нимбом света Славы Божьей трактуется как обретение сопровождавшими его апостолами спасения, обретение Божьего имени и духовной сущности. Христос тайно от людей открывает апостолам Свою божественную природу на горе – эквиваленте мирового дерева; эта харизма открывается в виде света – Бог сияет, как солнце. Видеть, светить и понимать – явления одного мифологического порядка; их антитезисом есть тьма и слепота. Трагичность образа Богочеловека-Христа заключается в том, что Он обречён на продолжительную неузнанность; ведь одно из страшнейших несчастий, с которым может встретиться человек традиционного общества, – одиночество, неузнанность, потеря имени и потеря окружения, своих. Хождение по земле неузнанного Христа, как и хождение Богородицы, их посещения «того света» – мотив, который входит в христианскую мифологию вплоть до «легенды о великом инквизиторе» Достоевского. С другой стороны, отождествление света и божественной харизмы в сознании христиан Киевской Руси находит наивное выражение в поклонении солнцу, о чём так непосредственно говорится в «Поучении» Владимира Мономаха.
Посвящение храма событию или святому – это также и выбор храмового праздника. А праздник в христианстве – не просто воспоминание, а священное воспоминание, как бы перенесение из нашего времени в сверх-время, время без течения, в события, ушедшие в вечность («островное время», по выражению Д. С. Лихачёва). В былинах Киевского цикла в этом вневременном времени вечно сидит князь Владимир Красно Солнышко и пьёт мёд-пиво со своими богатырями. Через «островное время» и осуществляется связь прошлого, настоящего и будущего.
Еще Н. К. Никольский и М. Д. Приселков в первой четверти ХХ ст. отмечали оптимистический характер древнерусского христианства и связывали эту черту с отсутствием аскетизма на Руси. Д. С. Лихачёв соглашался с этим, хотя отмечал, что отсутствие аскетизма само должно получить объяснение. С его точки зрения, оптимистический характер мировоззрения Руси является особенностью всех культур, переживающих открытие нового взгляда на мир; тогда появляется «как бы удивление вселенной» и восхищение окружающим, и это удивление всегда бывает радостным.
Столь общие характеристики не бывают бесспорными. Дискуссионным является тезис об отсутствии аскетизма на Руси. Если под аскезой понимать не конкретные формы аскетических учений, бытовавшие в Византии и в мире ислама, а общий принцип принесения в жертву жизненных потребностей человека, то невозможно отрицать аскетический характер не только монашества, но и ряда других антиструктурных движений, как, например, церковного странничества. Правда, на Руси почти не было юродивых – юродство как бытие на грани асоциальности, с приближением к смеховому отрицанию социальных поведенческих клише и вместе с тем к святости, расцветало в Византии и позже – в Московской Руси. Человек, демонстративно отделившийся от своего социума (о-собь, человек вне соби-общины (греческий ???????) и подчеркивающий анормальность своего самостоятельного бытия вызывающим поведением) вообще характерен для многих культур; юродство является одной из форм такого «сакрального индивидуализма». Тот факт, что в обществах с большим повседневным давлением на личность, какими были и византийское, и древнее русское общества, больше юродского неприятия господствующей социальности, чем в южной, «украинской» Руси, не должен вызывать удивления. Тем не менее отрицать аскетический характер того монашеского образа жизни, которое восходит к Антонию Печерскому, невозможно.
Важна даже не столько реальная распространённость стандартов поведения, принятых отшельничеством и пещерным затворничеством, сколько отношение «простецов», людей, ведущих обычный мирской образ жизни, к аскетическим подвигам. Это отношение является смесью страха и почитания. «Киево-Печерский патерик» свидетельствует о том, что выдающимся аскетам приписывалась особая способность совершать чудо.
Тяготение к аскезе в обществе является обратной стороной безудержного индивидуализма, нарушения элементарных поведенческих стандартов. Церкви и праву тяжело было удерживать и знать, и горожан, и селян от грубых проявлений варварского эгоизма, замещать традиционные запреты государственно-правовыми нормами и церковными эпитимиями и поучениями. Структуры родства сохраняются и в новых условиях либо служат моделью для новых отношений, возникают квазиродственные структуры, как, например, дружинное братство-comitas или предшественники цеховых братств. Даже изгои, люди без родства и подобных ему социальных или территориальных связей, объединяются в особую категорию «церковных людей», своего рода «множество элементов, не входящих ни в какое множество». Иными словами, никто не остаётся освобождённым от социальной структуры, стремящейся подчинить поведение индивида корпоративным стандартам. При этом через всю историю Руси проходит стремление общества подчинить конфликты военно-административной верхушки элементарным нормам поведения, принятым в родственной среде.
Эгоизм индивидов и групп разрывает общество на части, нормы родственных отношений слабеют и вырождаются, и без давления со стороны духовной элиты в виде аскезы во имя нравственно-религиозного спасения общество, вероятно, не могло бы существовать. Говорить в этих условиях о том, что человек чувствует себя центром вселенной и живёт в условиях комфортного согласия с природой, кажется преувеличением. К тому же корпоративное самосознание – а общество той поры не выпускало индивида из-под контроля социальных групп – не позволяет рассуждать о человеке вообще, вне сковывающих его социально-групповых связей. Не скоро ещё человек останется один на один со своей свободой выбора и ответственностью за содеянное – это придёт в эпоху гуманизма.
«Завещание Владимира Мономаха детям».
Литография 1836 года по рисунку Бориса Чорикова
И всё же именно об умонастроении душевного согласия с миром говорят цитируемые Д. С. Лихачёвым слова Владимира Мономаха из его «Поучения»: «…велик Ты, Господи, и чудны дела Твои, и благословенно и хвалимо имя Твоё вовеки по всей земле. И кто же не похвалит, не прославит силы Твоей и Твоих великих чудес и доброт, устроенных на сем свете: как небо устроено, и как солнце, как луна, как звёзды, и тьма, и свет, и земля на водах положена, Господи, Твоим промыслом! Зверьё разноликое, и птица, и рыбы украшены Твоим промыслом, Господи!» И дальше: «Всё же то дал Бог на угодье человеку, на снедь, на веселье. Велика, Господи, милость Твоя на нас, сотворившего те угодья для грешного человека (иже та угодья сотворил еси человека деля грешна)».
Это всё-таки великий оптимизм, скорее даже самонадеянность рода человеческого, в своей простоте возомнившего себя центром вселенной. Конечно, в Руси того времени мы встретим и множество согласных с мироощущением «Поучения» высказываний, и противоположное, глубоко пессимистическое умонастроение, хотя бы в «Молении Даниила Заточника». Важно, что высокое радостное удивление мироустройством родилось, несмотря на грязь и ужас бытия. Родилось где-то в культурном пространстве между отдававшей человека во власть веры аскезой самоотречения «сверху» – и грубым безудержным эгоцентризмом «снизу», со стороны мира мирских желаний. В той широкой области нормального человеческого бытия, создать и утвердить которую – миссия культуры.
Киев сохранил добрый и светлый облик прошлого своей культуры, то самое радостное удивление, которое словно улыбкой отражается солнечными бликами на его куполах. В этом городе современность так перепутана с архаикой, что всё дышит, и безвкусные архитектурные поделки не в состоянии заглушить гармонию естественного и рукотворного. Здесь, несмотря на суету и неустроенность столичного бытия, есть та атмосфера спокойствия, которая создаётся прикосновением к вечности.
Частина 2
Украiна в системi европейських цiнностей
Часть 2
Украина в системе европейских ценностей
Іван Котляревський та його «Енеiда»
І. П. Котляревський
Задум «Енеiди» виник, очевидно, тодi, коли пiсля полтавськоi школи i короткоi служби в канцелярii Іван Петрович Котляревський працював домашнiм учителем в с. Ковраi на Полтавщинi (за кiлька десяткiв рокiв таким же домашнiм учителем працював Сковорода, i теж в селi Ковраi, тiльки iншому, не пiд Золотоношею, а пiд Переяславом). Писати «Енеiду» Котляревський почав, очевидно, двадцяти п’яти лiт, 1794 року, i вже через чотири роки першi три частини без згоди автора опублiковано у Петербурзi. Вiршi ходили в списках i мали великий успiх; читали iх люди рiзних станiв, читали i украiнцi, i росiяни, – пiзнiше читав i смiявся, мiж iншим, i спадкоемець престолу, гвардiйський офiцер Нiколай Павлович. Вдруге – теж без згоди автора – iх передруковано 1808 року. В цей час, з 1796-го по 1808 рiк, Котляревський служив у вiйську i брав участь у турецькiй кампанii; потiм повернувся в рiдну Полтаву i 1809 р. сам видав у Петербурзi чотири першi частини твору. З початком вiйни проти Наполеона вiн сформував козацький полк, який, зрештою, так i не взяв участi в бойових дiях i навiть не одержав грошей за службу. Далi Іван Петрович служив директором театру, був попечителем богоугодних закладiв. Котляревський написав украiнською мовою для очолюваного ним театру, в якому вiн сам був також актором, двi п’еси, що заклали основу украiнського театрального репертуару на все ХІХ столiття, – «Наталка Полтавка» та «Москаль-чарiвник», водевiль на мандрiвний сюжет. Для того, щоб пустити п'еси в театри в межах «Малоросii», достатньо було дозволу генерал-губернатора князя М. Г. Репнiна, i Полтавський театр став першим, де почалися спектаклi украiнською мовою.
Водночас Котляревський все життя продовжував роботу над «Енеiдою». Всi шiсть частин твору вiн встиг закiнчити, але свiт вони побачили тiльки 1842 р., пiсля його смертi.
Певна загадка полягае в тому, що Котляревський, схоже, дуже сильно образився на видавця Парпуру, який опублiкував варiант «Енеiди» без його згоди. Про це свiдчать рядки з опису вiдвiдин Енеем пекла: «Якусь особу мацапуру / Там шкварили на шашлику, / Гарячу мiдь лили за шкуру / І розпинали на бику. / Натуру мав вiн дуже бридку, / Кривив душею для прибитку, / Чужее оддавав в печать; / Без сорому, без Бога бувши / І восьму заповiдь забувши, / Чужим пустився промишлять». Сумнiв у дослiдникiв викликала та обставина, що Парпура, власне, нiчим особливим проти автора поеми не погрiшив i нiчого собi не привласнив, i на порiвняння iз страшним злочинцем Мацапурою не заслуговував. Винен вiн був хiба тим, що друкував неповний твiр, але чи мало це якесь значення – адже «Енеiда», здавалось би, не тримаеться на сюжетi! Можливо, спочатку Котляревський взагалi не сприймав своеi поеми серйозно i не збирався ii друкувати? Але ж вiн ретельно дописував «Енеiду» все життя, до кiнця своiх днiв! А може, цю жахливу сцену «шкварiння на шашлику» (тобто, по-сучасному, на шампурi) не слiд сприймати серйозно? Взагалi, де у Котляревського серйозне, а де жарт?
Перше видання «Енеiди». 1798 р.
Котляревський як лiтературне i театральне явище починае новочасну украiнську культуру, що творилася вже не у книжному украiнському варiантi старослов’янськоi, а в нацiональнiй мовi. Проте, сприйняття «Енеiди» його наступниками було неоднозначним. Панас Кулiш взагалi вважав, що Котляревський в «Енеiдi» глузуе з украiнцiв. Микола Костомаров захищав Котляревського, говорячи, що в «Енеiдi» намальована вiрна картина украiнського суспiльства. Великий знавець iсторii украiнськоi лiтератури М. І. Петров виправдовував «Енеiду» лiтературними i семiнарськими традицiями, але вважав ii пародiею на «малоросiйське народне життя». Можна продовжити ряд оцiнок аж до радянського часу – всi автори iх вбачали заслугу Котляревського у реалiстичному зображеннi народного життя, але при цьому розглядали твiр як сатиру чи пародiю з мотивами соцiального протесту. Смiховий характер твору уявлявся лише «рамками», в яких вмiщувалося критико-реалiстичне полотно. В свiтлi сучасних уявлень про «смiхову культуру» очевидно, що оцiнки «Енеiди» з позицiй соцiально заангажованого реалiзму i рацiоналiстичного моралiзаторства свiдчать радше про нерозумiння природи жанру i неадекватнiсть вихiдних критичних принципiв.
Насамперед «Енеiда» Котляревського належить до численних переспiвiв твору великого римського поета, початих «Переодягненим Вергiлiем» француза Поля Скаррона (1610—1660), автора численних бурлескних комедiй. Переспiв Вергiлiя Скарроном знайшов велике число наслiдувачiв, у тому числi в Нiмеччинi i в Росii. Безпосередньо перед Котляревським бурлескну версiю «Енеiди» видав Осiпов, але були i неопублiкованi твори. Так, ми знаемо, що стародубський помiщик Опанас Лобисевич написав поему, яку сам вiн називав «Вiргiлiевими Пастухами, в малоросiйський кобеняк одягненими», однак, жодних слiдiв цих «Пастухiв» не лишилося.
Поль Скаррон
Тим не менш сам факт появи украiнського переспiву Вергiлiя на цiле письменницьке поколiння ранiше вiд Котляревського вартий уваги. Колишнiй студент Киево-Могилянськоi академii, учень архiепископа Георгiя Кониського i друг фiлософа-могилянця Давида Нащинського, багаторiчний спiвробiтник гетьмана Кирила Розумовського, Лобисевич належав до так званого Новгород-Сiверського патрiотичного гуртка, що складався на пiвнiчному сходi Украiни навколо дiячiв колишньоi гетьманськоi Генеральноi канцелярii. Інтерес до мандрiвного Вергiлiевого сюжету нацiонально орiентованого, високо, як на той час, освiченого представника свiтськоi, канцелярськоi культури Украiни з ii специфiчними – в тому числi гумористичними – традицiями (згадаймо «Листа запорожцiв турецькому султану»!) сам по собi показовий.
Іван Петрович Котляревський не мав вiдношення до Новгород-Сiверщини, корiнний полтавчанин, вiн майже все життя прожив у Полтавi безвиiзно, мав там досить велику, але просту, майже селянську хату близько нинiшнього центру мiста, на горбку над Ворсклою. Вiн був сином канцеляриста i належав до канцеляристськоi староукраiнськоi культури. Тим не менш Котляревський належав до нового поколiння. Вiн входив до того гуртка чиновникiв i iнтелiгентiв, якi створили 1818 р. в Полтавi масонську ложу «Любовi до iстини». Магiстром ложi був службовець канцелярii Репнiна М. Новиков, його заступником – С. М. Кочубей, колишнiй предводитель дворянства, родич вiдомого графа Вiктора Павловича, а І. П. Котляревський обiймав посаду, що називалась вiтiя. Декабристськi товариства стали спадкоемцями масонських лож, по сутi – елiтарних клубiв вiльнодумцiв. Варто проте зазначити, що iнiцiатором створення украiнських полкiв у роки вiйни з Наполеоном був один iз представникiв стародубськоi полковоi старшини, близький до Новгородсько-Сiверського гуртка Михайло Миклашевський, великий приятель князя М. Г. Репнiна. Мiж iншим, декабристами стали i зять Миклашевського, i брат Репнiна.
«Будинок Котляревського у Полтавi».
Робота Т. Г. Шевченка
Як пiдкреслював М. М. Бахтiн, при цьому залишаеться незрозумiлим, на кого тут пишеться пародiя. Чи е «Енеiда» пародiею на знаменитий твiр Вергiлiя? Якщо нi, то що ж тодi пародiюе Котляревський? Плутанина виникае з моралiзаторськоi i полiтизованоi естетики, для якоi якщо е смiх, то автор обов’язково когось чи щось висмiюе, картае i бичуе.
За своiм жанром, як зазначаеться в лiтературi, «Енеiда» належить до давнього бурлеску, тобто до «зниженого» i смiхового виконання «високоi» теми. Найчастiше при цьому говорилося про пародiйний характер бурлеску.
Історiя свiтовоi лiтератури знае не тiльки «низький», бурлескний переспiв Вергiлiя. Можна сказати, переспiвом «Енеiди» Вергiлiя була i «Божественна комедiя» Данте. При цьому Данте, передвiсник Вiдродження, серед своiх римських учителiв особливо видiляе Вергiлiя за його прекрасний стиль (lobellostile), вершина якого – в його «Енеiдi», що ii Данте називае «трагедiею». На протилежнiсть справжнiй, Вергiлiевiй «трагедii», Данте пише «Комедiю» (епiтет «Божественна» iй присвоiли пiзнiшi шанувальники), оскiльки вона протистоiть латинськiй класицi як твiр принципово iталiйський, створений в стилi volgareillustre (вишуканий простий).
Зрештою, сама «Енеiда» Вергiлiя е переспiвом цiлого ряду мiфiв, i до того ж не першим в лiтературi Риму. Етногонiчна легенда про нiбито Троянське походження римлян вiдобразила давне протистояння латинян з греками, але ця героiчна Вергiлiева версiя накладалася на вкрай архаiчний сюжет – сюжет вiдвiдин «нижнього свiту», свiту покiйникiв, звiдки майже нiхто не вертается живим. Мiфологiчно-обрядовою основою цього вiчного сюжету е, як показав Мiрча Елiаде, «шаманський полiт», ритуальна подорож «на той свiт», здiйснювана в трансi жерцями рiзних народiв свiту. Саме ця тема використана в «Комедii» Данте.
Звичайно, може викликати скептичне ставлення вже саме порiвняння скромного переспiву класичного твору Вергiлiя, використовуваного як посiбник для вивчення латини в тогочасних украiнських школах, з великим лiтературним творiнням Данте. Але йдеться не про параметри величi. В «Комедii» Данте – цiлком в дусi середньовiчного аскетичного «презирства до життя» – центральною темою «подорожi на той свiт» залишаються смертнi грiхи людини, своерiдною класифiкацiею яких е барвистi описи пекельних мук. Данте, передвiсник iндивiдуалiстичного ренесансного гуманiзму, все ж на кiлька столiть залишаеться в центрi того понурого невротичного умонастрою, який в Середнi вiки концентрував всю увагу людини на темi грiха, вини i смертi[113 - Див.: Делюмо Ж. Грех и страх. Екатеринбург, 2003. С. 273.]. Продовжуючи ризиковане порiвняння Котляревського з Данте, варто згадати i спiльну для них орiентацiю на культурно-нацiональну цiлiснiсть. «Нехай i немае в Італii единого загального уряду, подiбного до уряду Нiмеччини, – писав Данте, – членiв його, однак, не бракуе; i як члени згаданого уряду об’еднуються одним государем, так членiв нашого об’еднуе благодатний свiточ розуму»[114 - Цит. за: Хлодовский Р. И. Данте и Вергилий // Античное наследие в культуре Возрождения. М., 1984. С. 156.]. В обох випадках – i в Італii ХІV ст., i в Украiнi XVIII—XIX ст. – об’еднавчу роль «нацiонального государя» мала виконувати культура, «свiточ розуму». Тiльки стиль цiеi культури у Данте пiднесено-трагiчний, а у скромного провiнцiйного чиновника, письменника i актора-аматора Котляревського (що й подумки нiколи на посягав на Дантову велич!) простонародно-смiховий.
«Отаман Еней з козацьким вiйськом».
Ілюстрацiя до «Енеiди» Г. Нарбута
Посмiшку викликае вже перша фраза: «Еней був парубок моторний i хлопець хоть куди козак». Для багатьох читачiв вже цього достатньо – далi йде повторення смiхового спiвставлення образного ряду високого римського епосу з побутовим i простонародним украiнським образним рядом. Щоб оцiнити характер цього спiвставлення, треба знати не тiльки переспiв Котляревського, а й оригiнал Вергiлiя. В тi часи Вергiлiя знала кожна освiчена людина – його читали латиною, сьогоднi ми можемо скористатися вже й чудовим перекладом на украiнську мову М. Бiлика пiд редакцiею Б. Тена. Отже, початок поеми у Вергiлiя звучить так:
Ратнi борiння й героя вславляю, що перший iз Троi,
Долею гнаний, прибув до Італii, в землi лавiнськi.
Довго всевишня по сушi i морю ним кидала сила,
Бо невблаганна у гнiвi Юнона була безпощадна.
Досить натерпiвся вiн у вiйнi, поки мiсто поставив,
Переселивши у Лацiй богiв, звiдки рiд був латинський,
Родоначальники Альби й мури походили Рима.
Музо, про всi тi причини згадай нам, чию вiн образив
Волю божисту i що так царицю богiв засмутило,
Що навiть мужа такого побожного змусила стiльки
Витерпiть бiд i пригод; чи такi вже боги невблаганнi?
У Котляревського той самий початок звучить так:
Еней був парубок моторний
І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всее зле проворний,
Завзятiший од всiх бурлак.
Но греки, як спаливши Трою,
Зробили з неi скирту гною,
Вiн, взявши торбу, тягу дав;
Забравши деяких троянцiв,
Осмалених, як гиря, ланцiв,
П’ятами з Троi накивав.
Вiн, швидко поробивши човни,
На сине море попускав,
Троянцiв насажавши повнi,
І куди очi почухрав.
Но зла Юнона, суча дочка,
Розкудкудакалась, як квочка, —
Енея не любила – страх;
Давно уже вона хотiла,
Його щоб душка полетiла
К чортам i щоб i дух не пах.
Як бачимо, повторення у смiховому варiантi теми Вергiлiя досить близьке до оригiнального тексту i вiдрiзняеться не тiльки умисно-простуватою стилiстикою, а й сучасним i цiлком «високим» за розмiром i культурою рими вiршем. Для майбутнього «Енеiди» Котляревського чи не вирiшальною стала саме та обставина, що вiрш ii, легкий, невимушений, насичено-образний по-народному i зовсiм не смiховий, поклав початок сучаснiй украiнськiй поезii. Смiховий ефект, отже, досягаеться не тiльки подвiйним, але й потрiйним спiвставленням: героiко-епiчного латинського Енея з сучасною культурою та простонародним i грубим жартом.
Та обставина, що «Енеiда» Вергiлiя була знайома тодiшньому освiченому украiнському читачевi, мае бути врахована i при оглядi твору в цiлому. Сьогоднi мало хто може вiдповiсти на питання, який у «Енеiди» Котляревського сюжет, чим вона закiнчуеться. А у твору е сюжет, i вiн дублюе сюжет Вергiлiя.
Вергiлiева «Енеiда» – етногонiчна легенда: там розповiдаеться про звитяжнi дii родоначальника римлян, засновника римського народу i римськоi держави. Центральною темою е тема долi, що формуеться в боротьбi мiж рiзними богами, а у вирiшальний момент Юпiтер-Зевс дае герою самому визначити майбутне у чесному двобоi з Турном. Доленосна подорож з супутнiми безкiнечними вiйнами та боротьбою з природними лихами проходить i через пiдземне царство. Еней – один iз щасливцiв античноi мiфологii, якi побували в царствi мертвих i вийшли звiдти живими; вiн одержуе там благословення вiд батька, пророцтво якого служить йому опорою в боротьбi за майбутне.
Хоч подорож по «тому свiтовi» у Вергiлiя не мае такого самостiйного значення, як у Данте, опис царства Плутона, його п’яти зон, Вергiлiем е також характеристикою людського свiту, людських чеснот та вад з висоти мiстичного лету. Картини мандрiв Енея у Вергiлiя сповненi соковитих деталей, в тому числi е i описи пирiв, але в основному це – «пири»-битви, з детальними картинами того, куди увiйшов спис чи меч i звiдки вiн вийшов.
В «низькому» украiнському варiантi все набувае iншого смислу. Оповiдь перетворюеться на звичну для киiвського спудея карнавальну комбiнацiю своеi i латинськоi мови й образностi. За тиждень по прибуттi до землi Латина Енеевi троянцi «так латину взнали, / Що вже з Енеем розмовляли / І говорили все на ус: / Енея звали Енеусом, / Уже не паном – домiнусом, / Себе ж то звали – троянус». Є в поемi i вiдверто карнавальна нiсенiтниця – «глупота» – «Борщiв як три не поденькуеш, / На моторошнi засердчить; / І зараз тяглом закишкуеш, / І в буркотi закендюшить» i так далi. Пiдкреслена цими мовними пасажами дворяднiсть образноi мови – це карнавалiзацiя героiко-епiчного свiту римськоi «Енеiди». Сенс такоi карнавалiзацii стане яснiшим, якщо ми згадаемо, яку роль римський образно-символiчний ряд вiдiгравав у культурi класицизму.
Позбувшися серйозного легендарного значення, сюжет про приiзд троянцiв до Лацiуму та iх перемогу над мiсцевим царем Турном не втрачае сенсу, а набувае смiхового змiсту. Звичайно загибеллю царя завершувався всякий карнавал, убивство Турна Енеем перетворюеться на карнавальне ритуальне убивство. Подорож Енея з його «обiрваними, мов гиря, ланцями» по свiту мае не стiльки героiчний, скiльки комедiйний характер, бо де б вони не опинялися, вони тут же починають залицятися до мiсцевих молодиць i нестримно i буйно бенкетувати. В моралiзаторському трактуваннi твору Котляревського як сатири на вади сучасного йому суспiльства центральне мiсце посiдае опис вiдвiдин Енеем потойбiчного свiту, де вiн бачить справедливу кару за грiхи i висловлюе нiбито соцiальний протест. У виданнi «Енеiди», блискуче iлюстрованому Д. Базилевичем, зображено як в картинах пекельних мук, так i в картинi райського блаженства членiв Спiлки радянських художникiв Украiни. З однаковим успiхом можна було б твердити, що Д. Базилевич висмiював недолiки радянських митцiв.
В пекло украiнський Еней потрапляе саме так, як це вiн мав би зробити згiдно з народними уявленнями: «густий пройшовши дуже лiс», вiн побачив, що «на нiжцi курячiй стояла / То хатка дуже обветшала / І вся вертiлася кругом», а з хатки «вийшла бабище старая, / Крива, горбатая, сухая, / Заплiснявiла вся в шрамах; / Сiда, ряба, беззуба, коса, / Розхристана, простоволоса, / І, як в намистi, вся в жовнах». Казкова баба Яга, на яку перетворилася пророчиця Сiвiлла, веде Енея в дещо модернiзованi пекло i рай, описанi однаково з гумором. При цьому в пеклi зустрiчаються всi, i опис його нагадуе ярмарок: «Там всi невiрнi i христьяне, / Були пани i мужики, / Була тут шляхта i мiщане, / І молодi, i старики; / Були багатi i убогi, / Прямi були i кривоногi, / Були видющi i слiпi, / Були i штатськi, i военнi, / Були i панськi, i казеннi, / Були миряни i попи».
Грiшнi всi, грiшний свiт людський, для грiхiв панських знайдено свое слово, як i для грiхiв чиновницьких i iнших. Протиставленння грiшникiв праведникам навряд чи можна приймати всерйоз. Для характеристики раю достатньо згадати одну фразу: «Нi холодно було, нi душно, / А саме так, як в сiряках, / І весело, i так не скучно, / На великодних як святках». Опис райського блаженства вартий цитати:
Сидiли, руки поскладавши,
Для них все празники були;
Люльки курили, полягавши,
Або горiлочку пили,
Не тютюнкову i не пiнну,
Но третьопробну, перегiнну,
Настояную на бодян;
Пiд челюстями запiкану,
І з ганусом, i до калгану,
В нiй був i перець, i шапран.
І ласощi все тiлько iли,
Сластьони, коржики, стовпцi,
Варенички пшеничнi, бiлi,
Пухкi з кав’яром буханцi;
Часник, рогiз, паслiн, кислицi,
Козельцi, терн, глiд, полуницi,
Крутиi яйця з сирiвцем
І дуже вкусную яешню,
Якусь нiмецьку, не тутешню,
А запивали все пивцем.
В цiй повнiй гумору апетитнiй картинi райського блаженства – секрет не тiльки стилiстики, а й всього сенсу «Енеiди» Котляревського. Якщо у Вергiлiя поема сповнена натуралiстичних описiв побоiщ, що мають увiнчатися торжеством Риму над свiтом, то у Котляревського маемо натуралiстичний, буйний, якийсь рубенсiвський опис життевих радощiв, що швидше скидаються на нехитрi, невибагливi мрii мандрiвникiв тернистими шляхами життя. Згодом з’явиться чимало етнографiчних описiв Украiни, в тому числi i украiнськоi кулiнарii; «Енеiда» й тут мае серйозне наукове значення як джерело, але по сутi це не iлюстрацii i не описи – це картини життя, через яке проходять чи хотiли б пройти Еней з земляками. А конфлiкти вищих сил, вiд яких залежить доля людська, радше нагадують пiзнiшу «Кайдашеву сiм’ю».
Поема «Енеiда», з якоi починаеться нова украiнська лiтература, немов би написана на полях класичного твору римськоi лiтератури, як писалися на полях священних текстiв грубi «чернецькi жарти». Автор нiби переповiдае слухачам змiст героiчноi епопеi Вергiлiя, спускаючись до iхнього розумiння, – та так, що i Переповiдач, i слухачi вмирають зо смiху. Бо цi нiбито маргiнальнi простаки читали поему в оригiналi, знають смак золотоi латини i тому можуть оцiнити результат опускання римськоi героiки в низову повсякденну культуру свого нацiонального буття. Переповiдач продовжуе з дуже серйозним виглядом; мiсцями, коли вiн говорить про мужнiсть i вiдданiсть батькiвщинi своiх землякiв чи то пак Енеевого мандрiвного воiнства, вiн i справдi серйозний.
В результатi поема Котляревського начебто втрачае цiльнiсть, наявну у етногонiчнiй героiчнiй легендi римлян. Смiхове начало знiмае сюжетно-змiстову напруженiсть, все розпадаеться на окремi картини, поеднанi лише темою мандрiв. Та й мандри втрачають той рацiонально-повчальний характер, який вони мають в численних модифiкацiях сюжету блудного сина. Згiдно з естетикою карнавалу, смiховий простiр неорганiзований, це – свiт хаосу, що протистоiть звичному порядку, свiт «навиворiт». Сукупнiсть картин, мальованих «Енеiдою» Котляревського, швидше нагадуе яскравий лiтнiй ярмарок де-небудь в Ізюмi чи Сорочинцях (пригадаемо, що в «Ізюмському ярмарку» у гетьмана Розумовського актори говорили теж не по-нашому – правда, не латиною, а по-французьки). Ми бачимо i тих «троянцiв»:
Педька, Терешка, Шелiфона,
Панька, Охрiма i Харка,
Леська, Олешка i Сiзьона,
Пархома, Іська i Феська,
Стецька, Ониська, Опанаса,
Свирида, Лазаря, Тараса,
Були Денис, Остап, Овсiй
І всi троянцi, що втопились,
Як на човнах з ним волочились,
Тут був Вернигора Мусiй.