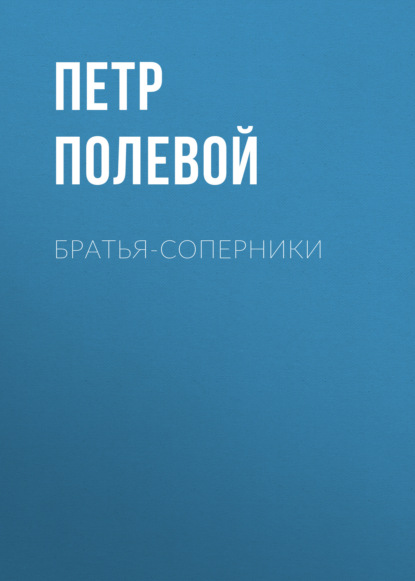 Полная версия
Полная версияБратья-соперники
– Чай, не узнал меня, государь?
Князь вгляделся в гостя и признал в нем Михайлу Кропоткина, ближнего стольника царя Иоанна Алексеевича.
– Узнать-то узнал, да не знаю – пугаться ли мне или радоваться твоему приходу?
– Уж и не говори, князь! Душа не на месте! Коли я у тебя попадусь твоим караульным на глаза – пропала моя головушка! Возьми ты от меня, Христа ради, письмо и посылку да пиши поскорее ответ, а меня припрячь куда-нибудь покамест…
И он вытащил из-за пазухи холщовый мешочек, завязанный и запечатанный, и записку, писанную знакомым крюком; положив все это на стол перед князем Василием, он заговорил скороговоркой, наклоняясь к самому его уху:
– Призвала меня на Верх, в церковь Воскресенья (изволила быть у обедни), в церковных дверях остановила и говорит: «Слышала, что ты в свою Вологодскую деревню едешь, так буде можно, посмотри, как везут князя Василия. Ведомо мне учинилось, что везут его скованного в телеге и сказывают-де-которае у него была рухлядь – и то-де взяли на великого государя. Вот, говорит, отвези ему… что могу!..» Я было попробовал ей челом ударить, чтобы меня от того освободила: «Опасаюсь-де я гневу государского…» Так куда тебе! Изволила прогневаться; говорит: «Если ты не послушен учинишься – и за Сибирью места не сыщешь!» Видя я такую напасть, уж не смел ей и перечить, а только челом ей бил, чтобы мне какого бедства не было… «Ничего, говорит, не будет; отдай князю Василию золотые, что в мешке, и пусть на меня не обижается. А еще ему скажи, что, как увижусь с братом Петром Алексеевичем, стану просить, чтобы над князем Василием милость показал».
Но князь Василий его уже почти не слышал; он не верил ушам своим, не верил глазам… Ему казалось, что он видит во сне и этого человека, занесенного случаем из Москвы в Вологду, и этот посильный дар царевны Софьи, и теплый привет, присланный ею далекому другу, забытому всеми.
Князь Алексей увел Кропоткина в чулан, в котором сидели его мать и жена, а сам стоял у двери на стороже, пока отец его вздувал огонь, читал письмо царевны и писал на него ответ условным крюком.
Стоя у двери и прислушиваясь к малейшему шороху в сенях, князь Алексей не спускал глаз с отца и дивился той перемене, которая в нем произошла: щеки его горели румянцем, взор оживился и заблистал, рука быстро бегала, набрасывая строку за строкою…
– Ох, господи! Да кончит ли он? – шептал между тем князь Кропоткин, сидя в чулане. – Князь Алексей, попроси ты отца, чтобы отпустил мою душу на покаянье!..
Но вот князь Василий окончил письмо и, вручая его Кропоткину, мог только сказать:
– Кланяйся… расскажи, что сам видел…
Минуту спустя князь Алексей и Микитка тем же путем, через сени, проводили Кропоткина в огород и помогли ему перебраться через частокол.
А между тем князь Василий ходил взад и вперед по избе, с отвращением заглядывая в ее темные и грязные углы… Ему вспомнилась его роскошная палата, ему чудились в самом привлекательном свете картины дворской жизни, блеск и почет и раболепное преклонение перед ним – великих посольских дел и царственной печати Оберегателем… И он с отвращением и злобою возвращался от своих золотых грез к окружавшей его действительности и клял свою судьбу, и дерзал роптать, забывая о том, каких бед он избег, забывая о грядущих бедствиях.
А грядущее готовило новые удары… Скрябин, ожидавший со дня на день ответов на свои письма в Москву, медлил с отъездом из Вологды и прожил на подворье еще две недели. Между тем наступила глухая осень, со слякотью, с холодными резкими ветрами. И вдруг вместо ожидаемого разрешения выждать земного пути из Москвы был прислан строгий выговор Скрябину за остановку в пути и строгое приказание везти опальных князей, несмотря ни на что, к месту ссылки.
Приходилось ехать на Тотьму Сухоною, которая к осени обыкновенно мелеет, так что плавание по ней становится очень затруднительным. Пришлось всю рухлядь князей и их экипажи и телеги нагрузить на небольшие суда и бечевою тащить их по реке, перегружать на перекатах и беспрестанно стаскивать суда с бесчисленных мелей. На беду вдруг завернули легкие морозцы, реку затянуло тонким ледком, а потом повалил снег, – суда пришлось бросить и ждать возможности ехать рекою в повозках, поставленных на зимний ход. Местные жители остерегали Скрябина: «Выжди, – говорили они, – дороги еще нет, лед тонок, потому снеги упали великие, а под снегом мерзнет лед мало и ваших тяжелых возов не подымет». Но Скрябин спешил, опасаясь новою выговора. 18 октября выехал он из села Турантьева, прокладывая дорогу по таким местам, где никто еще до него не езжал. Подвигались вперед всего по пять-шесть верст в день, а через речки и ручьи, пересекавшие путь, приходилось брести мужчинам пешком, перетаскивая на плечах сани и возки, перенося детей и женщин на руках.
«Господи боже, – думал опять князь Василий, совершенно изможденный трудным путем, – хоть бы до какого-нибудь крова поскорее добраться!»
– А вот и Тотьма! – сказал, оборачиваясь к нему, ямщик, указывая вдаль и как бы отвечая на его мысль. – Тутотка не больше трех верст будет. Как за реку Сухону переедем да на горку вздымемся – тут и есть!
Вот уже и на реку спустились, и не больше версты до городка осталось, и приветливо в тумане замерцали огоньки в окнах домов, и воображению путников стали в самом привлекательном виде представляться и теплый угол, и горшок горячих щей… Но что это? Сзади раздается пронзительный, раздирающий душу крик! Десяток голосов разом зовут на помощь!
– Батюшки, тонем! Помогите! Спасите!
Все выскакивают из саней, бросаются на крики и с ужасом видят, что оба возка княгинь и повозка с женской прислугой медленно опускаются в широкую полынью… и вода, выступившая из-под тонкого слоя льда, заливает несчастных, с ужасом видящих перед собою неминуемую, неизбежную гибель…
Вопль ужаса вырывается у всех разом, и на мгновение всеми овладевает только одна мысль, одно побуждение: спасти погибающего ближнего. Все – князья и слуги, стрельцы и сам Скрябин – устремляются на помощь, не помня о себе, бросаются к полынье, лезут в воду, забывая о личной опасности!
По счастью, оказывается, что возки обломились не на глубоком месте и всех женщин и детей, обезумевших от страха, удалось вытащить из воды и кое-как привести в чувство.
И вот, когда после этого смертного страха продрогнувшие, иззябшие, мокрые князья пришли в отведенную им дрянную избенку с закоптелыми стенами и спертым, затхлым, смрадным воздухом, когда они внесли в эту избу своих полузамерзших жен и детей, еще не оправившихся от перепуга, князь Василий впервые убедился в том, что у него есть в сердце привязанности, не имеющие ничего общего ни с внешним блеском, ни с мирскою суетною славою, ни с богатством, ни с соблазнительною роскошью и удобствами жизни.
Проведя бессонную ночь над изголовьем жены и молодой снохи, метавшихся в бреду на жесткой лавке, князь Василий в первый раз после отъезда из Троицкого посада позабыл о себе, о своем прошлом и будущем, и не роптал, и не сокрушался, и не жаловался, поглощенный заботою о ближнем и кровном.
XXXVIII
Княгиня Авдотья Ивановна поплатилась за испуг и жестокую простуду только легкою горячкою, но ее молодая невестка заболела жестоко, раньше времени разрешилась двумя девочками (из которых одна тотчас после родов и умерла) и пять недель сряду была на волосок от смерти. Едва только она начала немного оправляться, суровый пристав потребовал, чтобы князья собирались в дорогу, и двинулся на Сольвычегодск к Яренску. Каково было это путешествие, можно судить по тому письму, которое Скрябин, по прибытии князей на место ссылки, отправил к боярину Стрешневу. Заявляя своему начальнику и покровителю о том, что он прибыл «в Еренской городок Января в 6-м числе, совсем в целости», пристав при этом добавляет: «А езда, государь, моя была такая: лучше бы, государь, я болезнею какою лежал или в полону был, а нежели бы, государь, в таком мучении един день был». Можно судить по этому отзыву, каково было путешествие князей и княгинь с их малолетними и грудными детьми…
Яренск и теперь невелик город, и теперь в нем немного более тысячи жителей, а двести лет тому назад, по описанию самого Скрябина, это был «городишко самый убогий, – всего и с церковниками, и с подьячими, и с приставами тридцать дворишек». С величайшим трудом отыскалось помещение для несчастных князей с семействами: им отвели две нежилых, черных (курных) избы, двор умершего протопопа. В одной избе помещались князья с женами и детьми, в другой – их люди. При этой тесноте постоянно ощущался недостаток в запасах для насущного пропитания и в дровах, которые пристав чуть не с боем брал у яренцев, потому что они не соглашались давать ему дров без указу, а в наказе, данном ему, этот пункт не был предусмотрен. Житье князей было такое, что князь Василий не раз вспоминал о тех горицких мужиках, у которых отнята была последняя одежонка и деньжонки; но по крайней мере не отнята была теплая изба… «Им, чай, получше нашего жилось», – думал князь, оглядывая свое горемычное жилье.
Но все же, припоминая свое пребывание в Тотьме, где почти пять недель непрерывно пришлось провести у изголовья больной и беспомощной снохи, слушать ее стоны и вопли, видеть отчаяние сына, трепетавшего за жизнь жены, князь почти отдыхал в Яренске. Не мог он надивиться и на свою княгиню. Эта женщина, с детства воспитанная в роскоши, избалованная, изнеженная, привыкшая сладко есть и мягко спать, переносила все бедствия ссылки с таким мужеством и такою готовностью ко всяким напастям и бедствиям, что князь даже не мог понять, откуда бралась в ней эта замечательная сила духа. И это мужество было вовсе не похоже на ту напускную твердость и равнодушие, которые нередко высказывал князь, не желая унизиться и уронить своего достоинства перед Скрябиным и в то же время внутренне отчаиваясь, проклиная и ропща на судьбу… Нет! Это мужество исходило прямо из того безропотного покорства судьбе, к которому с детства приучала русскую женщину ее скромная и горькая доля – горькая даже и в раззолоченном боярском тереме, среди раболепной прислуги, среди забав и роскоши. Сознавая это, князь Василий, впервые сблизившийся со своею женою, впервые узнавший ее, начинал чувствовать и всю свою виновность перед нею, начинал ценить ее голубиную незлобивость, начинал понимать, насколько она выше его прекрасными качествами своего женского сердца. Нередко, окруженный ее заботами, он уже стеснялся ее услугами и хлопотами о его спокойствии.
После двух-трех недель житья в Яренске, в этих ужасных черных избах, в которых в былое время он не позволил бы поставить рабочей лошади, князь Василий настолько успел окрепнуть духом, что стал каждый воскресный и праздничный день ходить с князем Алексеем и приставом в церковь и находить большое наслаждение в богослужении, которое совершалось в жалкой церковке, едва вмещавшей в себя тридцать – сорок прихожан. Его умиляла эта несказанная бедность, которую он видел около себя в храме Божьем, – эти оловянные сосуды, эти крашеные облачения с нашитыми на них кумачными крестами, эти почерневшие и облупившиеся иконы, которыми еле теплились грошовые свечечки – усердный дар полудикаря-зырянина. Творец являлся ему Великим, Всемогущим, Всемилостивым и в этом убогом храме, и князь молился здесь спокойнее, теплее, усерднее, чем в обширных московских храмах, блиставших золотом, узоровьями и каменьями, залитых лучами солнца, игравшего на богатом облачении, полных благоухания и дивной гармонии стройных певческих хоров.
В то время, когда князь Василий только еще начинал понемногу оправляться в Яренске от постигших его тяжких невзгод, судьба готовила ему новые тяжелые удары.
В Москве о князе Василии не забывали его друзья и князь Борис, но не забывали и враги его. Розыск над сообщниками и единомышленниками Шакловитого все еще продолжался и приводил к новым открытиям. В «животах» казненного вора и изменника, тщательно разобранных и пересмотренных, была отыскана большая переписка, которую князь Василий вел с Федором Леонтьевичем во время двух Крымских походов.
В письмах князя Василия нашлись намеки, не совсем понятные, нашлись и целые строки, писанные крюками. Решено было в них потребовать объяснения у князя Василия. Мало того: пойман и привезен был в Москву Сильвестр Медведев и, подвергнутый пытке, сознался на допросе в своих сношениях с волхвами, которые, как оказалось, бывали и у царевны Софии, и у князя Василия. Являлся, следовательно, целый ряд новых обвинений против князя Василия, и, ввиду этих обвинений, особенное внимание Разыскного приказа обращено было на совершенно невинное письмо князя Алексея к отцу, писанное также во время одного из Крымских походов. В этом письме сын писал к отцу на условном языке о дворских делах вообще и выражался так: «Ветры у нас тихи; дай Бог и впредь так». И вот в расспросных речах приказано было дознаться подробно: «Что тем ветрам тишина, кто ему таким скрытным письмом писать приказывал, и для чего и почему он о тех ветрах дознавался, и каким гаданием и с которого и по которое число такие тихие ветры были, и что в тех ветрах каких причин было?»
В довершение всего, когда уже новые следователи готовились выехать из Москвы в Яренск, рызыгралась несчастная история с каким-то плутом, который называл себя старцем Иосифом (а впоследствии по розыску оказался расстрига Ивашка) и заявил в Москве, будто он был в Яренске, виделся с князем Василием и будто бы тот просил его зайти к князю Борису Алексеевичу и сказать ему, что «государю Петру Алексеевичу жить еще только год». И вот ко всем новым обвинениям против князя Василия прибавилось еще одно тяжкое обвинение в «умысле на государево здоровье» – обвинение, которое, если бы подтвердилось, должно было привести обвиняемого на плаху. Для расследования всех этих дел и важных вопросов в феврале 1691 года отправлены были в Яренск люди надежные и сановитые – окольничий Иван Иванович Чаадаев и думный дьяк Автоном Иванович, и с ними отправлен был чернец Иосиф для очной ставки с князем Василием и для допроса его на месте. Окольничему Чаадаеву даны были большие полномочия и строжайшие приказания. Он должен был не только самих князей допросить с пристрастием, но и людей их пытать, и перебрать всех поочередно поставленных караулить Голицына, начиная от пристава Скрябина до последнего стрельца. Мало того: в случае нужды приказано было о том чернеце Иосифе допросить всех жителей города Яренска. Поехали к Яренску грозные послы и повезли грамоты немилостивые…
Князья Голицыны только вернулись из церкви, от обедни, только что уселись за стол, готовясь хлебать уху из свежей рыбы, купленной поутру княгиней у рыбака-зырянина, как дверь в избу отворилась и вошел один из капитанов.
– Ну, князь, – сказал он, переступая порог, – недобрые вести я вам принес. Приехали от Москвы думный дьяк да окольничий и колодника сюда привезли на очную ставку с вами…
Ложки выпали из рук князей, а княгиня Авдотья Ивановна, державшая горшок с горячею ухою, так задрожала от страха, что должна была поставить горшок на стол.
– Господи! – взмолилась она, обращая взор к иконе. – Опять допросы! Опять мучения! Смилуйся, смилуйся над нами, грешными…
– Я затем забежал, чтобы вас обо всем предуведомить, – продолжал капитан тревожно, – не было бы обыску какого… Если что у вас есть – смотрите, поберегите себя и нас! Чтобы и нам за вас не быть в ответе.
– Пусть придут – обыщут! Нет ничего зазорного, – сказал князь Василий, стараясь казаться спокойным.
– Да будьте готовы, князья! Того и гляди, не потребовали бы вас в Приказную избу, – сказал капитан, подходя к двери и готовясь переступить порог.
В тот же день вечером князья были точно призваны в Приказную избу к ответу на расспросные речи, а в их избе и в избе их людей обыскано и перерыто все до последней тряпки. Князей рассадили по разным избам, допрашивали их и вместе, и порознь… Допрос и записывание их ответов по двадцати девяти статьям с волхвами длился несколько дней сряду. В течение этого времени – этой долгой нравственной пытки – князьям не дозволено было даже видеться с женами, и несчастные женщины, томясь неизвестностью об участи мужей, утешались только долгою, горячею, слезною молитвою о спасении несчастных.
Князь Василий при этих допросах страдал ужасно. Перед ним вдруг во всей полноте воскресла вся прошлая жизнь его и деятельность, раскрылись ухищрения и лукавства, которыми он добивался славы, почестей, богатств, видного положения в свете. И он, сознавая всю свою «мерзость перед Господом», должен был опять лукавить, чтобы избегнуть ответственности – спасти от гибели себя и сына.
Наконец долгий, мучительный допрос был окончен. Князь Василий надеялся, что ему дадут возможность вздохнуть свободно, хотя и недоумевал, какого колодника держат в запасе его строгие судьи и следователи. Тогда-то именно и был выведен на сцену наглый обманщик, именовавший себя старцем Иосифом. Князю Василию предъявлен был запрос о страшном извете, который возводил на него мнимый чернец.
– Государи мои, – сказал князь Василий, с полным сознанием своей невиновности, – заклинаюсь в том Всемогущим Богом, что никакой старец Иосиф не бывал у меня здесь в Яренске, ни в прошлом сто девяносто восьмом, ни в нынешнем сто девяносто девятом году; что ни здесь, ни в Москве я никогда не слыхал его имени, а те слова, которые он на меня в расспросе сказал, никогда и в мысль мою не вмещались. Бог свидетель мне и в том, что я никого из Яренска ни с письмами, ни с словесным приказом не посылал…
Тогда ввели в Приказную избу чернеца Иосифа и дали ему очную ставку с князем Василием. Наглый чернец настойчиво утверждал и в глаза князю Василию, что он его знает, что он был от него к князю Борису послан с речами и даже получил сорок алтын на дорогу. В доказательство своих слов чернец говорил, что он узнает того человека, который его к князю проводил, что укажет и дом, в котором ту ночь ночевал, и хозяина того дома узнает в лицо.
Князь Василий слушал нахальное вранье и сам себе не верил. Ему представлялось, что сам ад выслал против него беса в изветчики и грозит ему гибелью… «Если этот обманщик и клеветник был когда-нибудь в Яренске и сумеет свои клеветы подтвердить хотя подобием истины, мне придется сложить голову на плахе как изменнику и злодею!» – думал князь Василий, холодея от ужаса.
– Что ты скажешь на речи изветчика, князь Василий? – сурово обратился к Голицыну окольничий Чаадаев, вперя пристальный взгляд ему в очи.
Князь Василий собирался ему ответить с достоинством и рассуждением и вдруг почувствовал, что в нем что-то оборвалось, что в сердце его рушился последний оплот его гордыни и самомнения. Слезы градом покатились из глаз его. Позабывая о сохранении приличий и собственного достоинства, позабывая о людском мнении, князь разрыдался, как ребенок, и, ломая в отчаянии руки, воскликнул, упав на колени:
– Государи судьи! Бью челом великим государям, чтобы они меня пожаловали – велели бы милостиво разыскать всеми городскими жителями, и священниками, и церковниками: откуда этот чернец сюда пришел, у кого здесь ночевал и какою дорогою сюда попал? И если его извет подкрепят, пусть погибну я на плахе лютою и позорною смертью! Но не выдайте же меня, государи, лжецу и обманщику на посмеяние!
Несчастный князь долго не мог успокоиться. Чернеца отправили по городу с полковником Кровковым, да с подьячим Кузьминым, да со стрельцами и понятыми, требуя от него подтверждения его указаний на места и лица. Ложь его выяснилась вполне: он сбился и спутался, стал ссылаться на запамятование и даже на умоисступление и, сведенный поочередно на очные ставки со стрельцами, со священниками и местными жителями, вынужден был наконец сознаться, что он никогда в Яренске не был и взвел на князя Василия небывальщину…
Невиновность князя Василия по этому страшному извету была доказана, и все ответы по всем расспросным речам отправлены в Москву вместе с донесениями окольничего Чаадаева и дьяка Иванова, которые должны были в Яренске выжидать ответа на их доклады из Разыскного приказа. Князья Голицыны были возвращены своим семействам, но князь Василий был так потрясен последними событиями, что не мог оправиться, не мог прийти в себя. Он беспрестанно плакал и без всякой причины всего пугался, вздрагивая от каждого стука или шороха. Чуть только скрипнет дверь – он уже поднимался с лавки и тревожно спрашивал:
– Уж не за мной ли? Не опять ли к допросу?
В этом тяжелом состоянии трепетных ожиданий прошло более двух месяцев, которые показались князю Василию целою вечностью. В одну из бессонных ночей под утро князь вдруг заснул так сладко, так хорошо, как не спал еще ни разу с самого отъезда из Москвы. Ему снилось, что он гуляет по какой-то чудной кленовой роще, вкось освещенной красноватыми лучами заходящего солнца, и беседует с каким-то маститым старцем отшельником, жалуясь на свою горькую долю, на переживаемые им напасти и смертные страхи. Старец слушал его участливо, внимательно, ласково, а потом погладил его по голове, как ребенка, и сказал ему в утешение:
– Ничего, соколик! Все обойдется, уладится, а ты не отчаивайся, Бога не забывай и помни: «Его же любит Господь, наказует!»
С этим князь Василий и проснулся.
В тот же день призваны были князья в Приказную избу и сказан был им только что полученный из Москвы указ великих государей о том, чтобы «их, князь Василия и князь Алексея с женами и детьми, послать из Яренска в Пустозерский острог на вечное житье»…
Князь Василий, выслушав длинный указ, перекрестился на икону и сказал твердо:
– Господи! Да будет воля Твоя!
По какой-то странной случайности только в эту минуту окольничий Чаадаев и сам Скрябин заметили, что князь Василий в последние два месяца совсем поседел… И было от чего.
XXXIX
Эпилог
Минуло пятнадцать лет со времени описанных нами событий. Много воды утекло, много крови пролилось с тех пор… Царственный юноша, которого мы видели вступающим нетвердою ногою на престол, успел уже выказать себя Великим царем и могучим вождем своего народа. Сокрушив крамолу, вступив в борьбу с ненавистным невежеством и вековым застоем, он смело вел Россию вперед тернистым путем преобразований, смело и твердо боролся с Карлом и в то же время строил, созидал, изобретал, неутомимо работая на пользу своего возлюбленного отечества. В Европе Петру изумлялись и много о нем говорили, особенно после того, как он прорубил знаменитое «окно», создав свой «парадиз» на болоте; в России – особенно на дальних ее окраинах – Петра мало знали, не очень любили и очень боялись.
Около Петра не осталось почти никого из старых бояр, с которыми он начинал царствовать. Одни из них почили сном праведных; другие сошли со сцены и удалились на покой; третьи навлекли на себя гнев пылкого царя и были заменены новыми людьми. Умерли братья Нарышкины и царица Наталья Кирилловна. Весною 1705 года в келье Новодевичьего монастыря скончалась всеми забытая царевна Софья, постриженная под именем инокини Сусанны… А братья-соперники все еще были живы! Князь Борис Алексеевич даже стоял еще у дел и пользовался по-прежнему расположением своего царственного питомца, который посещал его и даже из походов писал ему дружеские письма; князь Василий все еще был в ссылке и тоже давно был забыт всеми.
В половине июня 1705 года, когда скудная и скупая на ласки северная природа наконец побаловала теплом даже такую дальнюю и неприветливую окраину, как Пинежский Волок (ныне уездный город Пинега Архангельской губернии), ближайший к этому городку Красногорский монастырь готовился к храмовому празднику. Игумен и казначей осматривали братские кельи, двор и холодную церковь монастырскую и рассуждали о том, что на поновление и поправку зданий потребуется порядочная сумма денег, до которой не хватало много в монастырской казне.
– Авось, Бог милостив, православные поусердствуют, как соберутся на празднике? – сказал игумен, добродушный седенький старичок лет семидесяти.
– Ну, этим усердием, отец игумен, крыши на храме не перекроешь! Здесь народ-то все – голь с беднотою!
– Ну, что Бога гневить! Жертвуют по возможности, – перебил казначея игумен. – Да и вперед не забегай – больше Бога не будешь… Ведь уж Он, Милосердный, коли даст, то и в окошко подаст.
– Что говорить! У Бога всего много – недаром это говорится. Вот ведь посмотри, отец игумен, какой денек Бог дал красный! Не нарадуешься и не надивишься… Все холода стояли – вдруг благодать какая!
Беседуя таким образом, оба старика подошли к воротам обители и почти одновременно увидели вдали, на дороге от села Кологор, высокую фигуру человека, который довольно быстро шел, опираясь на палку и, видимо, направляясь к обители.
– А вот, кажется, и богомолец-то к нам жалует? – сказал игумен. – Посмотри, отец Антоний, у тебя глаза помоложе моих – должно быть, не князь ли?
– Кому же другому быть? Вестимо, князь Василий!
– Должно быть, соскучился, голубчик, по нас! За распутицей дней десять и у службы не был… Так вот по первой просухе к нам и поспешает?..

