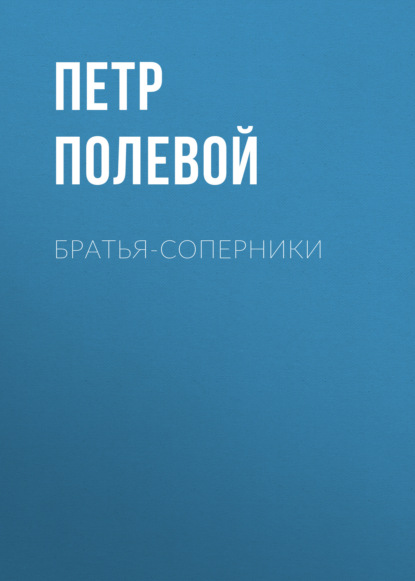 Полная версия
Полная версияБратья-соперники
Княгиня, прочитав письмо мужа, расспросила Куземку, который рассказал ей всю сцену опалы и чтение указа на государевом крыльце в Троицком монастыре. Но Авдотья Ивановна ни из его рассказа, ни из письма мужа не могла уразуметь всей громадности постигнувшего ее семью несчастья. Бедствие представлялось ей большим и тяжелым, но ее ни на минуту не покидала надежда на то, что это бедствие минует очень скоро, что всемогущий князь Василий сумеет отклонить от себя ужасную грозу, а главное, что юный царь, конечно, не в силах будет обойтись без помощи такого советника и дельца, как князь Василий…
Когда зазвонили в церкви к заутрене, весь княжеский двор был уже в движении и волнении. Приказано было приготовить к дороге два рыдвана, три кареты, шесть колымаг для служни и пятьдесят телег для обоза. Людям объявлено было, что княгиня едет на житье в ростовское имение со всем домом и что князья приедут туда же от Троицы. Все ключники и ключницы были призваны в княжеские хоромы и, получив приказание, засуетились в кладовых и амбарах. Княгиня, домовитая хозяйка, сама следила за укладкой всего необходимого для нее, для мужа, для сыновей и невестки, для маленького внука; сама ходила по амбарам и кладовым, наблюдая, чтобы не были забыты съестные припасы, вино, лакомства, фрукты; сама заботилась о людях, чтобы захватили с собою все зимнее платье и побольше одеял, ковров и войлоков. Так спокойно и толково все это делалось, что никому из людей и в голову не приходило, что княгиня собиралась в дальнюю ссылку; все твердо были уверены, что едут зимовать в ростовское имение князя, прославленное своими обширными фруктовыми садами и огородами. И самой княгине казалось, что ей не придется ехать далее Ярославля, и – самое большое – провести в деревне год или даже менее, «пока уляжется вся эта смута» (так рисовались в воображении простодушной Авдотьи Ивановны первые шаги Преобразователя!). Вот почему она заботилась не только о том, чтобы захватить необходимое, но и то, что составляло ненужную прикрасу жизни или излишнюю роскошь.
Агапьевна, вместе с двумя старыми горничными княгини разбиравшая белье и платье княгини, то и дело прибегала к ней и спрашивала:
– Матушка-княгиня, не прикинуть ли, кстати, и твою коробью и кисейные рубахи князя Алексея Васильевича?
– Вестимо, прикинь, пригодятся.
– А куда прикажешь из князь Алексеевых животов бумажники с взголовьями атласные алые положить?
– Положи их вместе с князь Васильевыми подушками с рудо-желтыми в один сундук: да не забудь туда же приложить наволоки камчатые жаркого цвета.
– Приложила, матушка, приложила! Там же, с бочку, положила подушечки цветные атласные, обшитые кружевом золотым, еще с духами трав-то немецких… Знаю, что их батюшка князь Василий Васильевич очень любит.
Уложив все необходимое, княгиня Авдотья Ивановна свято исполнила приказ мужа: сама обошла все кладовые с платьем мужа и сыновей, спорола с них золотые аламы[17], запаны и пуговицы – усыпанные драгоценными камнями и крупным жемчугом, приложила к ним из своего запаса перстни, серьги, запястья, ожерелья, монисты и четки из самоцветных камней – сложила все это в сундучок, окованный железом, заперла висячим замком и запечатлела княжескою печатью. Куземка Крылов отвез сундучок в Чудов монастырь и сдал там на руки келарю Герману и казначею Никанору, давним приятелям князя, на хранение. Затем княгиня приказала отобрать из оружейной палаты наиболее ценное оружие. Два воза нагрузили саблями, кончарами, кинжалами, саадаками и доспехами с золотой и усыпанными жемчугом и драгоценными камнями, а на другие два воза, в простых рогожных кульках, навалили самые дорогие и редкие из золотых и серебряных утварей и посуды. Все это было отправлено на хранение к отцу княгини – боярину Стрешневу.
Когда все было уложено и увязано и даже лошади впряжены в кареты и телеги, оказалось, что забыли о двух важных делах! Не поставили в карету княгини Марьи Исаевны клетку с ее любимым попугаем, а в колымагах для прислуги не отвели места для двух карликов, Дениски да Федьки Вахрамеевых, присланных гетманом Мазепою в подарок князю Василию. Карлики были очень обижены и жаловались княгине, которая обратилась к Агапьевне с упреком и сказала:
– Скажи, чтобы им сейчас нашлось место! Не оставлять же их здесь: свет-Алешенька любит с ними поиграть на досуге. Да посмотри, чтобы и короби с их потешным платьем не забыли прихватить.
Наконец все было готово, прилажено, приспособлено и уложено. Отслужен был в церкви долгий напутственный молебен; все экипажи и повозки окроплены святою водою. Княгиня Авдотья Ивановна вместе с невесткою, княгинею Марьей Исаевной, с младшим сыном Михайлом и с внуком, еще грудным ребенком, вошла в дом и в столовой палате князя Алексея стала прощаться со всеми собравшимися родными, с дочерью своей Ириною, бывшею в замужестве за стольником Одоевским. Все, по русскому обычаю, перед прощанием присели ненадолго на кресла и лавки «в поперек половицы», потом поднялись, помолились на иконы и стали прощаться. Княгиня никому ни единым словом не обмолвилась, что она с мужем и сыном едет в дальнюю ссылку, потому и проводы вовсе не были печальны. Плакала только Ирина Васильевна, целуя и обнимая свою дорогую матушку.
Спокойно и твердо сошла княгиня со двора, простилась со всеми людьми, наказала всем ключникам и начальным людям, чтобы зорко смотрели за боярским добром, без всякого упущения и оплошки, и слушались главного управителя Матвея Ивановича, на руках которого оставались ключи от всех богатств и неистощимых запасов княжеских. Затем княгиня еще раз приложилась к кресту, поднесенному ей священником, который не упустил случая пожелать матушке-княгине «безпакостного путешествия» и просил о присылке ему «запасца» из деревни, перекрестилась на крест своей придворной церкви и села в карету, напутствуемая поклонами и пожеланиями всей родни, знакомцев и дворни.
– С Богом! – проговорила она чуть слышно, едва сдерживая слезы.
– С Богом! Мир дорогой! – подхватили крутом несколько голосов, и тяжелая карета, целый ковчег Ноя, всколыхнувшись, двинулась с места и покатила из ворот налево. За нею тронулись тем же порядком еще восемь повозок и колымаг. За колымагами потянулся обоз из тридцати огромных черкасских телег с кровлями, запряженных четверками коней, и двадцать простых телег, запряженных тройками. Около повозок и обоза шла густая толпа провожатых, ехали на конях вооруженные слуги, бежали мальчишки и досужие зеваки и плелись нищие, выпрашивая подаяние и желая щедрым боярам счастливого пути.
На повороте к Лубянке в одной из кучек, собравшихся на углу улицы, две какие-то ветхие старушонки долго смотрели на поезд Голицыных и провожали глазами каждую отдельную телегу, словно хотели запомнить все, что на них было погружено, навалено и увязано.
– Господи боже мой! Добра-то, добра-то что! – прошамкала одна из старух, опираясь желтыми, исхудалыми руками на посох. – Одних коней, мать моя, насчитала я двести и пятьдесят!
– Что и говорить, Антипьевна, боярам не житье, а рай пресветлый! Умирать не надо!
XXXVI
Пристав Федор Мартемьянович Бредихин, назначенный для присмотра за князьями Голицыными и препровождения их в Каргополь, считал это поручение великим для себя бедствием. Он тотчас после назначения бросился во все стороны, к разным своим знакомцам и милостивцам и слезно молил их «не оставить его, убогого, в таких его напастях».
– Призри, государь, милостью своею, – говорил он каждому из них в особицу.
– Кроме Бога и тебя, защитника у меня нет! – повторял он, кланяясь каждому в пояс.
И милостивцы обещали его не забыть.
– Порадей, государь, чтобы мне там не зажиться, – хлопотал Бредихин у своих приятелей, приказных, дьяков, поднося им «барашка в бумажке». И дьяки обещали порадеть.
Действительно, положение пристава при знатных ссыльных было очень трудное. Если бы он не исполнил данного ему строгого предписания, то подвергся бы суровым взысканиям и тяжелой ответственности перед начальством; если бы исполнил предписание и стал относиться сурово к ссыльному вельможе, то возбудил бы против себя всех его родственников и друзей, что могло быть очень опасно в случае, если бы опальному удалось получить прощение и возвратиться из ссылки.
Федор Мартемьянович это понимал и заранее принимал меры к избавлению себя «от злого сего тартара», как он величал свое назначение. Надеясь на то, что это избавление не замедлит, он даже и относился к своим обязанностям спустя рукава. Да и мудрено было отнестись к ним иначе. Пристав и данная в его распоряжение команда, состоявшая из капитана и двадцати стрельцов, нагнав около Ростова громадный поезд князей Голицыных, уже съехавшихся с женами, оказались среди всей свиты вооруженных слуг князя также чем-то вроде почетной княжеской служни. Что могли сделать эти двадцать два человека, когда князья, их семейство и сопровождавшая их челядь занимали при остановке в деревнях по пятнадцати дворов, а при роздыхе в местах пустых, нежилых раскидывались целым станом в несколько десятков палаток? Притом от самой Троицы и до Ярославля князья ехали почти сплошь по своим вотчинам, где все население выходило им навстречу и при проезде княжеского поезда отвешивало своим боярам земные поклоны.
Благодаря всем этим условиям князья и княгини ехали почти до Ярославля очень спокойно и свободно, даже не замечая того, что они едут в ссылку, и все более и более свыкались с мыслью о том, что это путешествие должно будет, вероятно, благополучно окончиться и в их судьбе, несомненно, произойдет в скором времени благоприятный оборот. Не верил этому только князь Василий, хорошо понимавший современное положение дел и характер лиц, приближенных к Петру, но он, мрачно настроенный и молчаливый, никому не сообщал о своих тяжелых сомнениях. Судьба, впрочем, не замедлила со своими ударами…
23 сентября, как раз в то время, когда князья Голицыны, переночевав в слободке Гавшинке, вотчине Толгского монастыря, собрались ехать далее, к Ярославлю, на дороге показались десятка два ямских подвод со стрельцами, ехавшие очень бойко. Завидев княжеский обоз, изготовлявшийся в дорогу, ямские подводы остановились, и бывшие при стрельцах начальные люди, отыскав пристава Бредихина, передали ему какие-то бумаги. Через несколько минут один из приехавших со стрельцами капитанов отдал им приказание – остановить княжеский поезд и никого из поезда не выпускать впредь до нового приказания.
Вскоре к князьям, уже собиравшимся садиться в повозки, явился Федор Мартемьянович в сопровождении какого-то высокого, худощавого, носатого мужчины лет под пятьдесят, с жиденькой бородкой и карими глазами, смотревшими исподлобья. Федор Мартемьянович не мог скрыть своего удовольствия, когда стал заявлять князю Василию, что он получил приказ воротиться к Москве, а князей Голицыных повелено от него принять стольнику Павлу Михайловичу Скрябину (при этом он указал на своего спутника).
Скрябин поклонился князьям и, не теряя ни минуты, заявил им, что привез с собою указ государев, который и должен им прочесть немедля.
– Читай, мы готовы слушать, – спокойно сказал князь Василии, поднимаясь со своего места вместе с сыном.
Скрябин развернул указ и прочел в нем следующее:
– «Сто девяносто восьмой год, сентября в восемнадцатый день, великие государи, цари и великие князья Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич, всея Великие и Малые и Белые России самодержцы, указали: князь Василия и сына его князь Алексея Голицыных послать в ссылку с женами и детьми в Яренск, а в Каргополе быть им не указали…»
– Господи! – невольно вырвалось у князя Василия, беспомощно опустившего голову.
Скрябин, не обратив ни малейшего внимания на это восклицание, продолжал чтение весьма длинного указа, в котором далее значилось, что стольнику Скрябину повелевается отобрать у князей Голицыных всех «служилых поваренных и иных работных людей и конюхов» и оставить при них только пятнадцать человек с женами; всех остальных отпустить или прислать к Москве, а человека их Куземку Крылова «прислать к Москве же за караулом».
Сверх того, стольнику Скрябину приказывалось у князей «осмотреть и переписать именно», сколько у них захвачено с собою «золотых и ефимков, и денег, и каменья, и жемчугу, и серебряной, и всякого служилого заводу, и конских нарядов, и лошадей, и карет, и рыдваны, и коляски, и служилые телеги, и шоры, и иные всякие припасы, и поваренную посуду». Из всего добра, какое окажется у князей, приказывалось им оставить «на пропитанье» денег и движимости всего на две тысячи рублей, включая в это число и две кареты для княгини и лошадей, необходимых для дальнейшего путешествия.
– А вас, князья, – обратился Скрябин к опальным, – приказано мне из карет высадить и везти в Яренск на простых ямских подводах.
– Ну что ж? – сказал князь Василий, уже успевший совладать с собою. – Исполняй волю пославшего тебя.
Начался ряд тяжелых сцен, к которым не были приготовлены ни князья, ни их жены. Скрябин приказал стрельцам разгрузить весь княжеский обоз, открыть все шкатуны, сундуки и баулы; затем он обыскал самих князей, а княгинь выслал из избы в сени в одних телогреях, пока он со стрельцами рылся в их белье, платье и детских нарядах. Всему имуществу князей составлена была подробная опись, а на другой день призваны были из Ярославля ценовщики и на каждый предмет ими установлена цена. По этой цене Павел Скрябин отделил князьям из их имущества только существенно необходимое, старательно отобрав в казну все, что было получше. Недаром писал он потом своему начальнику боярину Тихону Стрешневу, что «против великих государей указу все учинил и оставил князьям только самое некорыстное».
Трудно передать, что должны были вынести князья и княгини при этом осмотре и оценке их имущества. Но ни князья, ни княгиня Авдотья Ивановна не высказали внутреннего состояния своей души ни единым словом. Только княгиня Марья Исаевна, беременная на сносях, не могла перенести всей этой тяжелой передряги и разрыдалась. Но невозмутимый делец Скрябин как будто даже и не видел, и не замечал того, что кругом него происходило: он считал, пересматривал, записывал, взвешивал, измерял и успокоился только тогда, когда все отобранное у Голицыных имущество было навалено на их же телеги, крепко увязано и сдано по описи возвращавшемуся к Москве Федору Бредихину.
На другой день после оценки и разбора имущества Скрябин занялся переписью людей, выехавших из Москвы с князьями и княгинями. Отобрав из числа их пятнадцать человек, пристав запер их в двух избах и приставил к ним караул. Всех остальных он сдал на руки Бредихину и не дозволил им проститься с опальными князьями.
– Павел Михайлович, – обратился Бредихин к Скрябину, пересматривая список людей, отпускаемых к Москве, – тут у тебя записан еще Куземка Крылов, которого приказано везти под караулом. Где же он?
– А он еще третьего дня в клети у старосты посажен за сторожи. Пошли туда стрельцов, чтобы его взяли.
Послали стрельцов, и стрельцы прибежали оттуда перепуганные.
– Беда! – кричали они еще издали.
– Что там такое? – спросили их приставы.
– Человек-то князей Голицыных повесился!
– Что вы врете?
– Чего там врать! Поди сам посмотри, коли не веришь! И сам – на гвозде, и язык – на губе!
Побежали приставы – посмотрели: и точно. Вбил Куземка в стену гвоздь да на гашнике и повесился…
Верный княжой холоп не выдержал опалы и унижения своих господ.
Все эти описи, оценки и возня с людьми заняли более двух дней. На третий Скрябин явился к князьям рано утром и заявил им, что имеет относительно их предписание – учредить над ними строжайший надзор, а потому никуда из избы не дозволит им выходить без караула и ни с кем не допустить ни в какие сношения, ни письменные, ни личные.
– Делай, что приказано! – сумрачно отвечал князь Василий. – Да мне сдается, что уж чем так-то нас караулить – лучше бы сразу посадить на замок, за решетку.
– Будет указ, так и посадим! – отвечал, осклабясь, Скрябин. – А теперича указа нет.
Князей развели в две разных избы и к каждому из них посадили по капитану, который выходил из избы только тогда, когда к князьям приходили их жены.
Еще день промедлили в Гавшинке; Скрябин, видимо, чего-то выжидал – и не тщетно. В ночь на четвертый день к нему привезены были какие-то бумаги, и рано утром он явился к князю Василию с Федором Бредихиным и, потирая руки, заявил, что прислан указ государев, который обоим князьям придется выслушать вместе.
– О чем же указ государев? – спросил князь Василий.
– А вот как изволишь выслушать, так узнаешь! – сказал Скрябин с улыбкой. Ему, видимо, доставляла большое удовольствие тревога князя Василия, на котором он хотел выместить всю досаду за ту тяжелую и невыгодную службу, которая ему самому выпала на долю при князьях.
Привели князя Алексея; заперли избу на крюк. Затем при двух стрелецких капитанах и при Федоре Бредихине Скрябин громогласно прочел указ о том, чтобы князья Василий и Алексей Голицыны были приставами допрошены по двенадцати статьям, извлеченным из последнего показания Шакловитого.
– «А у расспросу указали мы, великие государи, – так значилось в указе, – им, князь Василию и князь Алексею, сказать, чтобы они против тех вышепоименованных статей сказали обо всем подлинно. Да и то им сказать, что в тех статьях о том о всем Федька Шакловитый сказал у смертной казни. А по нашему великих государей указу, таким ворам, которые у смертной казни на кого учнут говорить, верят…»
Скрябин взглянул из-за указа на князя Василия и продолжал с особенным ударением:
– «А буде те люди, на которых языки у смертной казни говорят, в чем учнут запираться, и таких оговорных людей велено и пытать...»
И Скрябин опять взглянул на князя Василия, как бы желая удостовериться в том впечатлении, которое на него производит чтение указа. Но на этот раз он встретил такой решительный и твердый взгляд и в нем прочел такой суровый ответ на свои взгляды, что поспешил уткнуть нос в бумагу и дочитать указ.
– Воля великих государей, – сказал князь Василий, – на расспросные речи будем отвечать правду. А если и пытать нас укажут – ничего иного не скажем.
Князей рассадили в разные избы и, распечатав расспросные речи, приступили к допросу. Федор Бредихин вместе со Скрябиным допрашивали сначала князя Василия по двенадцати статьям, прочитывая ему статью громко и на особом листе бумаги записывая его ответы. К этим ответам князь Василий должен был приложить руку. Допрос длился несколько часов сряду, но ответчик давал такие сжатые и точные ответы, так умело и тонко рассчитывал каждое слово, что приставам приходилось удовлетворяться и записывать ответы сразу. К высказанному князь Василий не прибавлял потом, несмотря на все крючки и уловки Скрябина, ни единого слова.
Затем был в другой избе допрошен князь Алексей по одной статье, и к вечеру расспросные речи были запечатаны и отправлены в Москву с Федором Бредихиным, который был вне себя от радости, что мог свалить опальных князей на руки Павлу Скрябину. Милостивцы и приятели оказали Бредихину истинную услугу.
Вслед за отъезжавшим приставом потянулся обратно громадный обоз с животами князей Голицыных, захваченными в дорогу из Москвы и от Троицы. Не забыты были даже и карлы Вахромеевы; о них была даже прислана особая бумага к приставам, в которой указывалось, на основании сведений, полученных от Мазепы, что князь Василий самовольно присвоил себе этих карлов, которых гетман будто бы не ему подарил, а только просил его довезти до Москвы для передачи в дар великим государям.
На другое утро чем свет Скрябин приказал разбудить князей и семейства их. Ему указано было везти их наскоро, без всяких остановок и «мотчанья», и он, видимо, собирался это выполнить в точности.
Сырой и холодный туман заволакивал окрестность, когда из слободки двинулся в путь маленький поезд князей Голицыных, состоявший теперь уже только из двух небольших карет и десяти троечных телег… В одной из них на простом ковре, положенном сверх веревочного переплета, сидели князья Голицыны. Позади них на двадцати парных подводах ехали караульные стрельцы и Павел Скрябин со своею рухлядишкою, занимавшею пять подвод.
И отец, и сын молчали, грустно устремляя взор в туманную и немую даль.
XXXVII
Павел Михайлович Скрябин, имевший в Москве кое-какие связи и знакомства, отправляясь из Гавшинки, питал некоторую надежду на то, что и ему тоже не придется везти князей до самого Яренска. Ему почему-то представлялось, что его покровители и заступники сумеют о нем озаботиться не хуже, чем о Бредихине озаботились его милостивцы. «Доеду до Вологды, – мечтал суровый пристав, – а там уж, верно, пришлют на мое место кого-нибудь другого». И вот, ввиду ни на чем не основанных предположений, Скрябин спешил и погонял к Вологде, ехал почти безостановочно, нимало не обращая внимания на то, что князья и их семьи не были привычны к такой тяжелой и утомительной езде и должны были, при изнеженности и привычке к роскоши, с большим трудом переносить неудобства пути и недостаток в здоровой и свежей пище. Обе княгини и грудной внук князя Василия, конечно, простудились и расхворались дорогою и ехали полубольные. Князья страдали не менее жен, в первый раз в жизни испытывая прелести осеннего переезда по русским проселочным дорогам в тряской телеге. Но Скрябин прикидывался, что ничего этого не знает и не замечает: ему нужно было поскорее добраться до Вологды. «Из Вологды пошлю доклад великим государям, что далее по бездорожью нельзя ехать до зимнего первопутка, а тем временем авось меня и заместят… Нечего мне от Москвы далеко-то забираться!»
По странному и совершенно случайному соотношению положений князь Василий и князь Алексей тоже мечтали об остановке в Вологде и о возможности отдохнуть от тяжелого и непривычного путешествия, как о чем-то весьма желанном и приятном. Князю Алексею приходило в голову даже и то, что, может быть, их только припугнули Яренским, а дальше Вологды и не повезут… Князь Василий, мрачно настроенный, озлобленный мелкими придирками пристава и непривычными условиями жизни, ни о чем не мечтал, ни на что не надеялся, но и над ним еще раз собиралась подшутить шалунья-судьба, и подшутить очень злобно, пробудив какие-то проблески упований на возможность улучшения участи…
По приезде в Вологду Скрябин остановился с князьями на Соловецком подворье и, думая здесь остаться довольно долго, озаботился о том, чтобы устроиться поудобнее. Сам занял он на подворье большую избу на средине двора, из которой во всякое время мог, сидя под окном, наблюдать, что делалось в двух меньших избах, отведенных под помещение князей с их семействами и их прислуги. Стрелецкий караул поставлен был у ворот подворья и на входном крыльце к княжеской избе, и сверх того капитаны по нескольку раз в день заходили к князьям для ближайшего за ними надзора.
Казалось, что всякие сношения с внешним миром были прерваны… «К ним и муха без моего ведома не пролетит!» – утешал себя Скрябин и совершенно погрузился в сочинение доклада великим государям и письма к боярину Тихону Никитичу Стрешневу. Но Скрябин совсем упустил из виду, что одно из окон княжеской избы выходило в огород подворья, обнесенный частоколом, и что именно это окно облюбовал князь Василий и проводил около него большую часть дня, потому что из него не было видно ни капитанской избы, ни стрельцов, ни сторожей. По целым дням, сумрачный, унылый, он просиживал в глубоком молчании у этого окна, без всякой мысли устремив взгляд на тянувшиеся перед ним пустые гряды огорода, которые начинало порошить первым осенним снежком. Совершенно безучастно относился он к совершавшейся около него жизни, не замечая ни забот жены, ни устремленных на него с любовью и надеждою взоров сына и почти тяготясь невольною близостью к полубольной снохе и к маленькому внуку. Полное и вынужденное бездействие умственное и неподвижность физическая наводили на него какое-то отупение, погружали его мысль в состояние нравственной дремоты.
В один из тех сентябрьских дней, которые князь Василий просиживал под окном, он досидел до сумерек и уже собирался сойти с насиженного места, как вдруг увидел, что через частокол огорода перелезают два каких-то человека… В одном из них князь узнал своего конюха Микитку; другой, закутанный в охабень, был ему совершенно неизвестен. Каково же было его удивление, когда Микитка подвел этого человека к самому окошку и сказал князю вполголоса:
– К тебе, князь-батюшка, с вестями из Москвы…
Князь отскочил от окошка как ужаленный.
– Что с тобою? – спросила его жена, подходя к нему и хватая его руку.
– Кто-то с вестями из Москвы! – мог только ответить ей князь, а через минуту незнакомец переступал уже порог избы, прокрадываясь в нее как вор и боясь скрипнуть дверью.
Опустив воротник охабня и перекрестившись на икону, вошедший поклонился князю Василию и сказал вполголоса:

