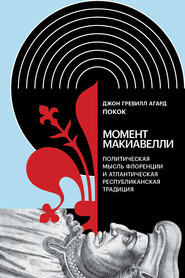
Полная версия:
Момент Макиавелли: Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция
Этой картине он противопоставил образ политии, системы, принимающей в расчет индивидуальность и различия между отдельными людьми при распределении политических ролей и власти. Однако возникали трудности с тем, чтобы разработать, в качестве чистой или же прикладной науки, теорию общества, в котором каждый мыслимый характер и социальный тип имел бы соответствующую ему роль в процессе принятия решений. Во-первых, хотя общество можно разделить на множество узких групп, а процесс принятия решений – на множество дробных функций, между двумя этими наборами элементов трудно было найти настолько точное соотношение, чтобы каждой стремящейся к определенному благу группе соответствовала своя специфическая и подходящая для нее форма политической деятельности. Здесь кроется глубоко укорененная, хотя и во многих смыслах плодотворная, двусмысленность аристотелевской теории. С одной стороны, понятие политии, помещенное в застывшие рамки традиционного словоупотребления, неизбежно упрощалось и представало как соединение аристократии и демократии, элиты и тех, кто к ней не принадлежал, нескольких мудрецов и глупого (или здравомыслящего) большинства. С другой стороны, мы видим тот важный результат, что сложное смешение, образующее политию, могло мыслиться или как смешение классов и социальных групп; или как смешение нравственных и интеллектуальных качеств, которыми такие группы предположительно обладали; или как смешение численно определенных групп, на которые можно было разделить полис; или как смешение различных политических функций, на которые можно было разбить процесс принятия решений; или как сочетание всех этих смешений. Аристократию, например, можно трактовать как потомственную знать, как меньшинство исключительно мудрых, талантливых или честолюбивых или же тех немногих, которые должны присутствовать в любой политической системе, играя в ней особую роль; и все эти представления могли сочетаться или разделяться. Политическая функция немногих выглядела как проявление таких качеств, которыми только они и обладали, как исполнение ими функций, отвечавших их особым качествам, или же как выполнение функций, которые лучше возложить на узкую группу людей вне зависимости от их способностей. В нечеткости языка Аристотеля заключалось и его богатство; он был потенциально открыт анализу во многих направлениях, даже если способствовал смешению этих направлений. На уровне прикладной науки сложность заключалась в том, что общество, в котором каждому мыслимому типу и категории соответствовала своя политическая функция, нельзя представить в виде некой единой институциональной структуры. Поэтому в практических целях оно обычно представлялось в виде уже упомянутой условной модели как сочетание или гармония одного, немногих и многих, точнее – поскольку греческие города-государства непосредственно не соприкасались с монархией – аристократии и демократии. Каждый элемент обладал своим достоинством, играл отведенную ему роль и вносил особый вклад в общие усилия, направленные на принятие решений, но в этой крайне упрощенной модели действовало множество концепций, присущих аристотелевскому анализу, побуждая гражданина осмысливать свою политическую роль различными способами. Полития представляла собой одновременно институциональную и нравственную матрицу, и поиск соответствующей ей институциональной формы всегда оказывался попыткой решить чрезвычайно сложную проблему примирения действий людей, которые были моральными только в своих отношениях друг с другом.
Существовали определенные сложности и с тем, чтобы представить отдельного человека как гражданина и члена этой структуры. С одной стороны, гражданином его делало именно личное стремление к конкретным благам; с другой – его гражданство могло упрочиться лишь при условии, что он заботился об общем универсальном благе и принимал его в расчет; между двумя этими стремлениями всегда возможен конфликт. Если он настолько сосредоточивался на своих личных благах, что подчинял им универсальное благо, он мог оказаться соучастником тирании какой-либо небольшой или обширной группы, и ценность, присущая его личным целям, не могла служить гарантией, что этого не случится. Подобно падшему человеку в традиции христианской теодицеи, он не мог спастись за счет собственных добродетелей; но там, где Августин говорил бы о действии божественной благодати, Аристотель в своем анализе гражданской добродетели полагался на политическую деятельность сограждан отдельного человека, управляющих им и направляющих его, равно как и он управлял ими, или – строго говоря – на нравственные и политические законы, управлявшие всеми. Однако фундаментальная неопределенность между частным и всеобщим благом сохранялась. Гражданина можно было представить как афинянина, в котором разнообразие личных достижений подогревало способность действовать в интересах общества, или как спартанца, который отказывался от всех конкретных форм саморазвития, чтобы действовать как гражданин и руководствоваться лишь гражданской солидарностью. Аристотель в целом отверг спартанский идеал, независимо от того, что можно сказать о Платоне; однако ренессансная Европа с XV по XVIII столетие отдавала предпочтение суровым патриотам с берегов Эврота152. Спарта отличалась стабильностью и смешанным правлением, Афины же были демократичны, нестабильны и склонны подвергать гонениям философов, которых любила Европа. В Спарте, конечно, философов вовсе не существовало, но, возможно, лучше иметь граждан, чтобы стремиться к полному самоотождествлению с общим благом. Однако чем было общее благо, если оно вело к отречению от всех единичных благ? Это противоречие по-прежнему оставалось неразрешимым; но один момент не следует упускать из виду: полития заключалась в отношениях между ценностями, а благо гражданской жизни – править и быть управляемым – состояло в отношениях между добродетелью одного человека и добродетелью другого. Именно с точки зрения этого взаимообусловленного и ориентированного на общение характера добродетели лишь политическое существо могло быть подлинно хорошим человеком.
Концепция полиса – которая в определенном смысле является политической концепцией в ее чистой и изначальной форме – легла в основу конституционной теории итальянских городов и гуманистов. Она предлагала парадигму, внутри которой политическое образование могло осмысляться как одно целое, какой и должна быть любая итальянская коммуна. Речь шла о городе, состоящем из взаимодействующих между собой людей, а не из универсальных норм и традиционных институтов; и ценность парадигмы в этом качестве не ограничивалась лишь моделью политии как морального сообщества, ибо такой город, как Флоренция, чья обычная институциональная структура представляла собой комплекс связанных между собой собраний, управ и комитетов, мог бы многое узнать о теории такой структуры из размышлений Аристотеля и афинской истории. Сторонникам гражданского гуманизма и vivere civile предлагалась теория, которая была им необходима в силу их практической вовлеченности в городские дела – теория, изображавшая социальную жизнь человека как универсальное участие, а не как универсалию, подлежащую созерцанию. Конкретные люди и частные ценности, к которым они стремились, соединялись в гражданском коллективе, чтобы добиваться и получать удовольствие от универсальной ценности, которая отличает действие ради общего блага, а также стремиться ко всем меньшим благам. Но за эту теорию пришлось дорого заплатить; она предполагала завышенные требования и серьезный риск. Полития должна представлять собой совершенное сотрудничество между всеми гражданами и ценностями, ведь если она являлась чем-то меньшим, это была бы лишь часть, правящая от имени целого, подчиняя частные блага собственным частным благам и дрейфуя в сторону деспотизма и порчи своих собственных ценностей. Гражданину надлежит стать совершенным гражданином, ведь если он был чем-то меньшим, то не давал политии достичь совершенства и искушал своих сограждан, сделавших для него то, что он должен был сделать для себя сам, быть несправедливыми и развращенными. Стать зависимым от другого – такое же большое преступление, как и унизить другого до зависимости от самого себя. Поэтому проступок одного гражданина сокращал шансы других на достижение и поддержание добродетели, так как добродетель рассматривалась теперь как часть политики; она состояла в партнерстве правящих и управляемых, с другими, которые должны быть так же нравственно автономны, как и он сам. Таким образом, преследуя гражданский идеал, гуманист обусловливал свое будущее как нравственной личности политическим здоровьем своего города. Он должен без всякого цинизма принять максиму, что свою страну надо любить больше своей души; в каком-то смысле от этого зависело и будущее его души, ибо коль скоро справедливость, одна из христианских добродетелей, отождествлялась с распределительной добродетелью полиса, спасение в какой-то мере становилось социальным, в какой-то мере зависящим от других.
Ренессансному мышлению эта проблема неизбежно представлялась как проблема во времени. Как мы уже видели, проблема республики заключалась в поддержании единичного существования, а всему единичному была свойственна нестабильность, измерением которой служило время. В рамках теории полиса и политии республику можно признать универсальной, поскольку она предполагала всеобъемлющую – а потому стабильную – гармонию конкретных ценностей, а подобная гармония теоретически – даже когда принимала упрощенную форму удачного сочетания одного, немногих и многих – должна сохранять стабильность и оставаться неизменной во времени. Однако этому противоречило допущение, что республику, поскольку она дело человеческих рук, со временем ждет неминуемый конец; существовал неопровержимый исторический факт, что Афины, Спарта и Рим некогда пришли к закату и прекратили свое существование, и в рассуждениях Аристотеля можно обнаружить прекрасное теоретическое обоснование этого тезиса. Поскольку диапазон конкретных ценностей и видов деятельности, ассоциаций и отдельных лиц, стремящихся к ним, оставался неопределенным, всегда было очень трудно создать политию, которая в действительности не являлась бы диктатурой одних частностей над другими, и так же трудно было создать условия для того, чтобы гражданин не предпочел свои частные ценности общему благу. Поступая так, он приносил в жертву свою гражданскую добродетель, но, как мы уже видели, обязательным условием гражданской добродетели служило то, что упражняться в ней можно лишь среди своих сограждан, поэтому она утрачивалась из‐за чужого проступка, как и из‐за своего собственного. Законы и другие директивы, предписывающие следовать гражданским добродетелям, могли насаждаться с такой же суровостью, как в Спарте, и все же гражданин не был способен полностью ручаться за неизменное поддержание добродетели его товарищем, не говоря уже о своей собственной. Всегда оставалась угроза нравственной порчи (или коррупции, как ее стали называть). Если добродетель зависела от добровольных действий других людей, от соблюдения законов, призванных контролировать эти действия, и от долговременности внешних факторов, делавших эти законы возможными, она в действительности зависела от множества переменных – от видимого полиса как множества частных элементов, а также от полиса как универсальной единицы, – и сила, направлявшая эти точечные изменения, называлась Фортуной. Со времен Боэция считалось, что, хотя поток земных событий непостижим, непредсказуем и, по всей видимости, не оправдан, христианин тем не менее мог верить, что Провидение направляет его к личному спасению. То, что казалось простой удачей или неудачей, на деле обеспечивало контекст, в котором формировалась деятельная добродетель человека, служило материалом для ее формы. Эта тема вновь зазвучала и усилилась в сочинениях христианских гуманистов, поскольку обостренная восприимчивость к филологии и истории заставляла их с большей отчетливостью ощущать переменчивость фортуны, а также превратности социальных и моральных обстоятельств, в которых люди действовали. Но политизация добродетели несла разительные изменения. Деяния фортуны больше не были чем-то внешним по отношению к добродетели человека, а составляли ее часть; то есть, поскольку добродетель отдельного человека основана на его сотрудничестве с другими и могла утрачиваться вследствие неумения других сотрудничать с ним, она зависела от поддержания полиса в совершенном состоянии, которое беспрестанно становилось жертвой человеческих ошибок и переменчивости обстоятельств. Добродетель гражданина в каком-то смысле делалась заложницей фортуны, и становилось необычайно важным исследовать полис как систему конкретных элементов, поддерживающих его стабильность – и универсальность – во времени.
По причинам, которые, по-видимому, определяли сознание времени, характерное для афинян, Аристотель не слишком подробно останавливался на времени как измерении всего нестабильного, но в дохристианскую эпоху жил по меньшей мере один классик, применявший эту концепцию к политической и конституциональной мысли. Шестая книга «Всеобщей истории» Полибия, хотя ее текст вплоть до второго десятилетия XVI века был доступен лишь на греческом языке, оказала столь заметное влияние на ренессансные представления о политике во временном измерении, что ее можно назвать средоточием основных концептуальных проблем и интеллектуальных ходов эпохи. Полибий, греческий экспатриант, живший во II веке до н. э. и наблюдавший глазами представителя римского господствующего класса за тем, как Рим покорял центральное Средиземноморье, задался целью153 объяснить эти беспрецедентные достижения города-государства, предположив, что военные успехи республики соотносятся с ее внутренней стабильностью. Это привело его к пространным размышлениям о стабильности и нестабильности в городах и к переработке теории политии, которой предстояло привлечь к себе пристальное внимание мыслителей эпохи Возрождения. Опираясь на вариант использованной Аристотелем классификации из шести типов – монархия и тирания, аристократия и олигархия, демократия и охлократия (власть толпы или анархия), – он сформулировал теорию последовательного развития, знаменитого anakuklōsis politeiōn, или «круговорота конституций»154. Он утверждал (слабо подкрепляя свою теорию известными ему историческими примерами), что любое государство, если к тому не возникнет каких-либо препятствий, должно поочередно пройти все эти этапы в указанном порядке и от анархии вернуться к монархии, после чего вступить в новый цикл. Единственная стабильная система – та, что избежала цикла или может на это рассчитывать; она напоминала бы политию Аристотеля, представляя собой сочетание трех форм правления, определенных через число людей, находящихся у власти: монархии, аристократии и демократии.
Полибий мыслил этот круговорот как фюсис (physis), естественный цикл рождения, роста и смерти, через который должны проходить республики155; но поскольку он предлагал средства избежать его, в его трактовке речь шла не столько о природе, сколько о нежеланной и злой судьбе, и хотя tyche и fortuna действуют у него скорее в сфере внешних событий, нежели внутренних отношений, очень важно понимать, как этот круговорот оказался частным случаем вращения колеса Фортуны. Каждой простой форме правления присуща своя добродетель, и именно она неизбежно приходила в упадок, если не сдерживалась добродетелями, свойственными другим потенциально доминирующим элементам. Эта идея порчи деятельного начала в силу избытка и перевеса одного его хорошего качества в чем-то перекликалась с трагическим греческим понятием хюбриса (hubris) и еще больше – с мыслью Аристотеля, что диктатура одного блага над другими разрушительна как для этого правящего блага, так и для управляемых благ. Однако римлянин понимал fortuna как противницу virtus и согласился бы с тем, что именно virtus каждого элемента, уравновешивая и объединяя virtutes остальных, в данном случае упорядочивал и прославлял фортуну. В то же время можно заметить, что благодаря политейе (politeia) – конституции, или отношению между добродетелями, осуществляющими властные полномочия, – политевма (politeuma), или совокупность граждан, по Аристотелю, образовывала полис, материю, принявшую правильную форму, и обретала способность противостоять разрушительному действию времени, которое, как мы уже видели, было работой добродетели против фортуны. Но virtus теперь политизировалась; отныне это уже не героическая мужественность правящей личности, а партнерство граждан полиса.
Для читателей эпохи Возрождения основная мысль заключалась в том, что всякая простая добродетель неизбежно вырождалась, поскольку была простой и единичной. Проблемой единичных явлений выступали их конечность, смертность, нестабильность во времени, и как только добродетель (сама по себе универсальная) воплощалась в форму конкретного правления, она разделяла общую нестабильность. Более того, смертность во времени установлений человеческой справедливости являлась не просто делом фюсиса (physis), естественной жизни и смерти живых существ; она была нравственным падением, повторением грехопадения и в то же время очередным триумфом силы Фортуны. Когда люди стремились придавать моральным системам конечные и исторические формы, они отдавали свою добродетель на милость Фортуны. Колесо, возносившее и низвергавшее королей, служило эмблемой тщетности притязаний человека; колесо, возносившее и низвергавшее республики, – эмблемой тщетности человеческого стремления к справедливости. И гражданин, старавшийся активно практиковать vivere civile, должен был дорого заплатить за то, чтобы найти убежище в вере и созерцательности Боэция; и осознание значимости этой цены не притуплялось от того, что платить ее приходилось часто.
Перспектива мира, в котором справедливость зависела от движения колеса Фортуны, пугала, однако идея циклической повторяемости парадоксальным образом добавляла некую осмысленность. Фортуне, в конце концов, не была присуща способность творить, и она могла только бесконечно тасовать колоду не ею созданных карт. Такое понимание перемены как иррационального движения в целом подразумевало, что она не содержит принципа роста и не способна породить ничего нового, поэтому невозможно понимать рост или перемены как историю. Но тогда Фортуна обречена на повторения. Испробовав все возможные комбинации карт, она могла лишь начать заново; единственный выход для нее – вернуться вспять, и слово ricorso, как и слово rivoluzione, стали часто применяться для обозначения момента, когда фортуна делала шаг назад и начинала свою игру с нуля – быть может, с самого начала. Поэтому, если смотреть в долговременной перспективе, получалось, что все уже происходило ранее и произойдет снова; колесо Фортуны превратилось в образ повторяемости и непредсказуемости, и был сделан имевший огромное значение и отчасти утешительный вывод: если знать, какие события происходили в прошлом, можно строить предположения относительно того, в каких комбинациях они повторятся. В той мере, в какой это было возможно, мир Фортуны становился более понятным, менее пугающим и даже более управляемым.
Оставалось предположить, что карты лягут в том же порядке и что события не просто повторятся, но повторятся в тех же последовательностях и циклах. Полибий выдвинул эту гипотезу вместе со многими братьями-стоиками и, возможно, чувствовал себя более уверенно, ибо сократил число переменных, из которых складывалась полития, от бесконечности до трех156. Если единственным двигателем перемен является упадок, этот процесс не может быть созидательным; число таких переменных в мире необходимо ограничить; чем их меньше в той или иной части реальности, тем больше вероятность их повторения в определенном порядке, а три – действительно очень малое число. Исходя из этого, Полибий мог позволить себе весьма оптимистичный взгляд в отношении шансов на создание политии универсальной формы, которая избежала бы циклических изменений. Если все, что необходимо, – это создать смешение или баланс одного, немногих и многих, наделив каждого мерой – или родом – власти, достаточными, чтобы защититься от простого и саморазрушительного господства любого из двух других, тогда может показаться, что универсальная политическая гармония вполне соответствует умозрительному и, вероятно, практическому пониманию человека. И если причина перемен заключалась в нестабильности, присущей всему единичному, а единичных факторов, которые надо принимать в расчет при создании государства, всего три, значит, причин, способных вызвать изменения, оставалось немного и ими запросто можно пренебречь; существовала вероятность, что смешанная конституция Полибия будет противостоять изменениям и существовать вечно. Можно покинуть Колесо и переместиться в Сферу.
Впрочем, Полибий не позволял себе рассуждать таким образом. Будучи стоиком, он полагал, что ничто в этом мире не является бессмертным; он также предсказывал, что чем большим богатством и властью располагает республика, тем труднее ей поддерживать в должном равновесии составляющие ее порядки и добродетели. Погоня за частными удовольствиями станет более неистовой, если не наложить на нее сетку ограничений. Он не только предрек – так, по крайней мере, казалось читателям позднейших столетий – разрушение Римской республики, не выдержавшей напряжения и соблазнов средиземноморской империи; он утверждал, что даже – или в особенности – в самых благоприятных исторических условиях стремление к частным благам несовместимо с поддержанием гражданской добродетели. Республика была обречена. Для христианского читателя это необходимо означало, что в истории невозможно избежать повторения грехопадения и даже республика не могла заменить благодать, спасая человека от его последствий. Можно сказать, что фортуна (или природа) со временем приведет любую республику к порче и упадку, отсылая таким образом к утверждению Августина, что спасение человека заключалось не в политике и не в истории. Действительно, теория Полибия, допускавшая возможность бессмертия республики, фактически вынуждала христиан возвращаться к Августину; ведь если республика существовала вечно, то вечно должен существовать и мир, а считать так было язычеством.
И все же христианский гражданин стремился к тому, чтобы максимальным образом примирить два этих воззрения. Он мог утверждать, что система политической добродетели – прекрасно сбалансированное содружество Полибия – существует столько, сколько добродетель без благодати способна продержаться в мире, где правят грех и фортуна, то есть почти вечность. Или же он мог утверждать, что добродетельный город, придававший фортуне форму и стабильность, тождествен царству благодати, что он проявится и заявит о себе, когда благодать приблизит конец времен, и что он воплощал и осуществлял Тысячелетнее Царство или Третий Завет. Однако политизация благодати была явно чревата подменой благодати политикой. К таким крайностям и ересям могли толкнуть приверженца гражданского гуманизма решение отказаться от традиционного и вневременного понимания политики и попытка воплотить универсальные ценности полиса в конкретной, конечной, исторической форме республики. Поскольку республика не была ни обществом, основанным на обычае, ни частью воинствующей церкви, ей надлежало оставаться моментом во времени – моментом либо исполнения пророчества, либо иррационального вращения колеса фортуны – или же попытаться выйти за рамки системы понятий, которую мы обрисовали. Ум, склонный к подобным размышлениям и способный на такой риск, можно назвать поистине секулярным гражданским умом.
ЧАСТЬ II
Республика и ее фортуна. Политическая мысль Флоренции 1494–1530 годов
Глава IV
От Бруни к Савонароле
Фортуна, Венеция и апокалипсис
IСистема ценностей и проблем, очерченная в предыдущей главе, была, разумеется, не единственным языком, на котором гражданин Флоренции мог выразить свое понимание гражданского патриотизма. Для этого существовали и другие средства, восходящие к римскому праву и к практической деятельности флорентийских учреждений, а также выраженный в доступных гражданам словах набор ценностей действия и участия. В силу этого обстоятельства Ризенберг157 и другие исследователи задавались вопросом, нужно ли вообще понятие «гражданский гуманизм», чтобы объяснить расцвет гражданского сознания и его артикуляцию. Как они продемонстрировали, в гражданском праве и муниципальных статутах позиция гражданина была выражена в терминах практической деятельности, а не в теоретическом и рефлексивном залоге, занимающем нас в этой книге. Однако в нижеследующих главах будет показано, что язык, которому соответствует термин «гражданский гуманизм», можно проследить, начиная с утверждения республиканского видения истории. Этот язык использовался в различных целях, среди которых, безусловно, самым важным было ответить на вопрос о том, может ли vivere civile и связанные с ним ценности устойчиво сохраняться в потоке времени. К достижению данной цели сознательно стремились выдающиеся мыслители последних лет Флорентийской республики, в том числе Гвиччардини, который, хотя был сведущ в области гражданского и канонического права, в своих трудах по гражданской морали и политическим институтам на удивление мало прибегал к юриспруденции. При этом существуют свидетельства158, что, обсуждая свои повседневные совместные проблемы, граждане Флоренции, одержимые внешней опасностью и внутренними разногласиями, использовали язык, историю которого мы пытаемся проследить. Как на практическом, так и на теоретическом уровне понятийный словарь «момента Макиавелли» выполнял определенную функцию. У этого языка есть история, которую можно написать. Он составляет значительную часть наследия Флоренции, усвоенного позже европейской и атлантической политической традицией.



