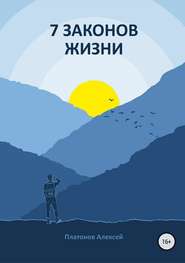 Полная версия
Полная версия7 Законов жизни
3. Запутанная мотивация. Хотя наше стремление к росту всегда подлинное и чистое, оно часто смешивается с более низкими мотивами, включая желание быть любимым, желание принадлежности, желание заполнить внутреннюю пустоту, убеждение, что духовный путь устранит страдания, и духовные амбиции – быть особенным, лучшим, единственным в своём роде.
4. Отождествление с духовным опытом. Отождествляется эго – мошеннически присваивая себе высшее. Мы начинаем верить, что воплощаем тот инсайт, который нас когда-то посетил. У рядовых жертв самообмана эта болезнь не затягивается. Но у людей, которые считают себя просветлёнными и/или становятся духовными учителями, она задерживается надолго.
5. Одухотворение эго. Эта болезнь случается, когда сама структура эгоистической личности глубоко отождествляется с духовными идеями и концепциями. В результате появляется «пуленепробиваемая» эгоистическая структура. Когда эго одухотворяется, мы становимся непроницаемыми, наш духовный рост останавливается – и всё это во имя духовности.
6. Массовое производство духовных учителей. Существует несколько широко разрекламированных традиций, которые постоянно производят людей, считающих себя гуру или мастерами, что на самом деле совсем не так. Это некий духовный конвейер: здесь немного сияния, здесь добавим инсайт, и – о-па! – ты просветлён и готов просветлять окружающих в таком же стиле.
7. Духовная гордыня. Она возникает, когда практик после многолетних напряжённых усилий действительно достигает определённого уровня мудрости и использует это достижение, чтобы оправдать отсутствие дальнейшей практики. Ощущение «духовного превосходства» – ещё один симптом болезни. Он проявляется как «я лучше и мудрее остальных, я выше их».
8. Коллективное сознание. Его ещё называют групповым мышлением, психологией культа или болезнью ашрамов. Это коварный вирус, очень похожий многими элементами на традиционную созависимость.
9. Комплекс избранного. Это убеждение, что «наша группа более духовно развита, сильна и просветлена, или, проще говоря, лучше всех остальных групп».
10. Смертельный вирус «Я добрался». Эта болезнь чрезвычайно опасна, поскольку ведёт к смерти нашей духовной эволюции. Представляет собой убеждение, что «я достиг цели духовного пути».
ВЫВОДЫ:
Человек (людие) на самом деле обладает безграничными возможностями и имеет всё необходимое для самовосстановления и познания смыслов. Но духовная жизнь – высшая из трёх проявлений личности – часто «забита» физическими потребностями и желаниями эго. Однако только здесь главенствует система смыслов, а не привычек, норм или догм.
Человек, не занимающийся регулярными духовными практиками и развитием, не может быть назван культурным, поскольку отстраняется от чистого, изначального источника жизни. С распространением культурного фаст-фуда помыслы, деяния, речь и история разрушаются, теряя гармонию с миром.
Всё, что побуждает нас действовать в духе, – свято и не имеет отношения к границам, религиям или традициям, оно сигнализирует о святости любви и близости источника.
В масштабах Вселенной мы все равны, более того – взаимопроникаем и взаимодополняем этот мир, и принцип «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой» можно переписать в виде «поступай всегда во благо».
Духовная жизнь естественным образом меняет систему ценностей, в которой потребность заменяется достаточностью, как правило создавая избыток. Чтобы пустить излишки во благо, необходимо отдать их нуждающимся, а получая подобные дары – важно проявлять благодарность.
Очевидно, что чудеса случаются. Причём гораздо чаще, чем мы замечаем, и те, кто способен их видеть, постоянно благодарят Вселенную. Мы взаимосвязаны, и вера, любовь, благодарность, желание делиться, забота и сострадание имеют такую силу, которая не сравнима с действием лекарств или любыми технологическими прорывами. Только этими возможностями пользуются не все.
Мы – арендаторы на Земле и часть Вечности, которой безальтернативно принадлежим, и смерть – лишь возможность обновиться, слившись с истоком жизни. А чтобы, вернувшись в состояние источника, не загрязнить его, нужно усмирять эго, создающее нам на духовном пути всякие преграды.
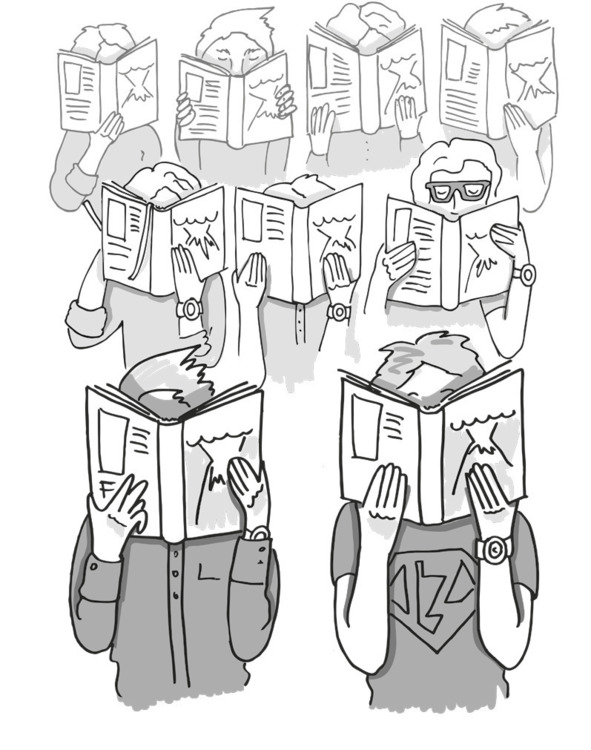
§7.4. Кейс. Сила идет от корней
Изюмов достал из нижнего отделения книжного шкафа старую тетрадь для записей. Вряд ли что ещё в этом шкафу вызывало такой трепет и волнение. Документ хранил самые сильные переживания, связанные с семейной историей, свидетельства самого драматичного периода кардинальных перемен в жизни маленького сообщества близких людей. В тетради неровным студенческим почерком красовались записи о далёких событиях, некогда сделанные Изюмовым от имени отца. После середины скромно выделила себе место для душевных излияний его мама. Её аккуратные строки различались лишь цветом чернил, подтверждающим, что текст писался не сразу, а с большими промежутками. Он взялся читать мамины воспоминания…
Это началось в 1990 году, когда мы с моим любимым мужем стали задумываться о приближающемся времени выхода на заслуженный отдых: чем будем заниматься, чтобы иметь безбедную старость, и что оставим детям. С экрана телевизора шумно грохотала перестройка Горбачёва. Целая плеяда новых перестроечных деятелей наперебой ругали семимильными шагами уходящий в прошлое режим. Новые веяния, новые толкования тех истин, которые были ещё недавно незыблемыми для нас, воспитанных «самым справедливым строем», будоражили кровь и побуждали, с расправленными крыльями открывающихся возможностей и свобод, ловить ветер перемен.
Под натиском публичной полемики, а также домашних дебатов, в моём сознании медленно и очень болезненно происходили изменения. То, что раньше считалось зазорным и даже наказуемым, теперь стало называться коммерцией и если ещё не поощрялось, сопровождаемое негодующими взглядами людей старших поколений, то по крайней мере создавало хрупкое равновесие в спросе и предложении. Люди, коротавшие большую часть века в состоянии «попробуй достать», в одночасье столкнулись с дилеммой «были бы деньги».
Не помню, кому из нас первому пришла в голову идея в духе новых веяний заняться бизнесом. Отработав всю сознательную жизнь на оборонном предприятии, впитав «зазорность перепродажи», мы решили организовать производство. А поскольку сытые дни нам выпадали не часто, выбрали направление общепита.
Это было очень интересное, будоражащее время. Людям, привыкшим «трудиться на благо родины», выпала возможность хоть чуть-чуть разглядеть в необъятном народном благе ту собственную частичку, которую можно сделать осязаемой. Инженерное сознание тоже давало о себе знать – очень уж мечталось механизировать процессы или даже создать собственную производственную линию… Да чего там лукавить, хотелось, чтобы всё делал автомат!
В нашей семье любимым незатейливым лакомством всегда была жареная картошка. Идея, вероятно, зародилась с покупкой ножа, который пластинками нарезал картошку так тонко, что когда она прожаривалась – хрустела, объедение! Надо сказать, что даже удобный нож тогда считался чудом, а таких волшебных устройств, как фритюрница, не было и в помине…
Так постепенно начали крутиться мысли о создании электроножа, на который шнеком будет подаваться картофель, тут же падающий в нагретое до необходимой температуры масло и, прожарившись, перекочёвывающий в контейнер для сушки и фасовки. Уже рождались наброски конструкции, но абсолютно очевидным был факт – самим такую затею не осилить.
Все, кто в тот период оказывались у нас в гостях, силой нашего воображения погружались в сладостную мечту с обязательной дегустацией продукции, «похожей на ту, которую в скором времени будет делать автомат». У гостей тут же загорались глаза, и они воодушевлённо заявляли, что хотят увидеть, как это воплотится в жизнь.
Постепенно формировался круг людей, готовых поучаствовать в «бизнес-проекте». В первую очередь, кроме нашей семьи – меня с мужем и двоих сыновей, – это были близкие друзья и родственники.
С высоты всего пережитого опыта можно умилиться той наивностью, когда казалось: возьмём в аренду помещение, соберём станок, опробуем, а когда пойдёт первая продукция, можно расширяться и новое здание присматривать. Планов было столько, что хотелось бросить никому не нужный оборонный завод и заняться настоящим делом жизни.
В марте 1991-го мой Геночка взял отпуск, чтобы окончательно подготовить эскизы. Я вечерами и ночами начала отрабатывать технологию производства, а он писал техническое задание и готовил чертежи будущего автомата. Все расчёты, кроме редуктора, тоже были исполнены им. Одновременно муж разрабатывал устав и ряд других бумаг для регистрации предприятия.
20 марта 1991. Скоро, совсем скоро соберутся друзья на важный совет. Я взяла отгул, весь день в ручном режиме делаю ту самую картошку. Каждый должен знать, ради чего он в будущем пожертвует силы и время.
Подготовка к торжественному дню продолжается и двадцать первого.
22 марта 1991. Большой стол выдвигается в центр комнаты. Посередине – кушанье. Старший сын – Женя – и сваты пришли первыми, что-то обсуждают. Гене сейчас не до них, надо хорошенько обдумать, что говорить, как начать, чем закончить.
Вот собрались все, кого мы ждали. Пришли семь человек из близких друзей, которые тоже станут учредителями. Заседание начинается. Муж ещё раз повторяет идею, рассказывает о перспективах, демонстрирует чертежи. Я веду протокол и записываю всё, что мы говорим. Учредители нового товарищества, которое будет носить гордое и многозначительное имя «Полином», должны внести в фонд по 1 тыс. рублей. Значит, мы с мужем внесём две. Для нас в то время это была очень внушительная сумма. Все наши деньги– закончившаяся накопительная страховка жизни на 5 лет.
Документы подписаны. Оживление в рядах – все нападают на картошку! Так, собственно, начался «Полином», который и был зарегистрирован в мае 1991 года, а в июне, понимая ответственность за «новорождённое» дело, причём не только за семью, но и за доверивших ему управление товарищей, Геночка покинул заводской пост. Это означало, что, поскольку у старшего сына уже была своя семья, кормильцем с постоянным доходом в доме осталась одна я.
Мы ожидали, что потребуется максимум год, чтобы сделать станок, найти помещение и начать получать стабильную прибыль. Я была уверена, что этот год справлюсь одна, сумею продержаться и прокормить семью. В крайнем случае буду подрабатывать вязанием, шитьём, вышивкой.
Подготовка к этому году, не сулившему ещё доходов, шла продуманно. Мы переработали дары сада-огорода: засолили, засушили, сварили всё, что только можно было собрать. Евгений закупил по самой низкой цене всего на месяц просроченные макаронные изделия, с надеждой мы смотрели на запас крупы, сахара, муки, стирального порошка. Сватья помогла купить на все оставшиеся деньги бязь и пряжу для рукоделия. Это было сделано очень своевременно, так как в стране началась волна паники из-за подскочивших цен. Но эта волна на самом гребне уже несла нас в неизвестность…
И неизвестность скоро обернулась необитаемым островом. 14 августа 1991 года Женечка через одного знакомого нашёл рядом с рынком за небольшую плату помещение, где мы решили сделать булочную и кафетерий.
Хотя вскоре… От того, с чем нам пришлось столкнуться – если бы не сила мечты, опустились бы руки! Приехав осмотреть арендованные хоромы, мы прошли в распахнутые ворота, а там… Первым приветствием представал покосившийся, убогий, белёный по горелому уличный туалет, рядом мусорный ящик, забитый до предела; пара старых сломанных прилавков вдоль покосившегося забора, который тоже, верно, не раз жгли. По прилавкам было видно, что этот двор «обжит»: на них, в них и под ними размещались старые, драные матрасы, поломанная детская коляска, санки, битые стаканы… Всё это свалено в кучи… На откуда-то принесённой скамейке громоздились доски – лежбище-логово. На нём валялись тела, умудрившиеся в свалке посуды за день накопать несколько целых бутылок, чтобы купить одну заполненную зельем.
Чтобы попасть в помещение, нужно было разгрести все завалы. Мы – законные владельцы этого счастья, и первое, что требовалось сделать – закрепиться на территории. А затем, конечно же, навести порядок. Приехала машина, собрались рабочие. Лопаты так и мелькали. Весь день ушёл на «косметику». Гаражи, которые проржавели от времени, так и остались охранять никому не нужный груз: различную тару, ржавые склянки, битые бутылки и прочий хлам. Это трогать было нельзя – государственные материальные ценности! Но ура, первая победа!
Теперь дело дошло до помещения.
Помещение представляло собой большой зал, разделённый пополам перегородкой, прикреплённой к потолку.
Мы знали, что сначала это был двухэтажный жилой дом, но большинству из учредителей он вспоминался как небольшая булочная, далее приёмка стеклотары, а потом – развалина, где никто, кроме бомжей, не обитал уже лет пять. Здание забросили после того, как кассирша, прямо на своём рабочем месте, провалилась в подпол, бывший некогда первым этажом. Он скрывался под землёй из-за того, что поднялся уровень рынка и окрестностей. Наличие нижнего этажа выдавали арки окон, едва подымающиеся над уложенным вокруг асфальтом.
Первое, что встречало на входе в здание, – небольшая пристройка где-то 2,5 на 5 метров. Два грязных окна через решётки освещали несуразный зелёный круглый стол. Пара кургузых стульев с торчащими гвоздями, шкаф и дыра в стене, прогрызенная крысами, дополняли интерьер. Просевший потолок из мокрой ДВП, держащийся на честном государственном слове, так и норовил обвалиться в любое неподходящее время. Однако, этому помещению, единственному тёплому и потенциально светлому во всём здании, – предстояло стать нашим пристанищем на два с лишним года, днём выполняя функцию штаба, а ночью – сторожки.
Состояние основного зала уже не удивляло – привычные осколки посуды, сломанная незатейливая мебель и тара, какие-то тряпки… Но в первую очередь интересовал бывший первый этаж, который, как выяснилось, использовали в качестве удобной мусорки, куда за годы насыпали просто Авгиевы конюшни разных отходов и грязи. По гниющему мусору нужно было перемещаться на коленях ползком, так как до свода оставалось не более полутора метров, а местами и того меньше. Грязь и вода не давали возможности хорошенько осмотреть все конструкции, но в свете свечи иногда попадались старые окна, дверные проёмы, лестничный пролёт, загороженный досками. Кишели крысы, плесень проела периметр. Словом, тут всё подтачивало здание изнутри. Стойкий неприятный запах мешал сосредоточиться на самом важном – оценить, сколько лет оно ещё продержится без капитального ремонта. После того как был исследован заброшенный этаж – посовещавшись с учредителями, большинством голосов мы решили, что, пожалуй, пол выдержит обозримый срок. Сказывалось отсутствие денег, времени, неопытность, желание поскорее начать дело.
Мы приступили к разбору завалов. Со всего помещения собрали грязь и около окна возвели из неё огромную кучу. Целую плитку, которая отваливалась от пола, собрали в ящики, осмотрели лопнувшую по некогда существовавшему дымоходу стену.
Помещение быстро преображалось, но наводимый на территории порядок всё сильнее привлекал бывших хозяев-бомжей, для которых забор не был преградой, и ещё много-много раз нам приходилось объяснять гостям из прошлого, что здесь их жизнь закончена. Бывало, придёшь, откроешь дверь, и вот – опять «старые друзья». В течение дня тоже наведывались привыкшие к местному сервису интеллигенты с настоятельными просьбами дать хоть какую-то тару, поскольку «не из горла же пить». Тяжело было, когда перелазили через забор сразу несколько человек, нисколько нас не смущавшихся, любезно приглашавших отметить с ними, собственно, наше новоселье и выражавших удивление: «работайте, мы же не мешаем».
Но в скором времени они от нас отвязались. Увесистые замки, которые мы купили, чтобы ограничить доступ нежданным гостям, ещё долго лежали дома за отсутствием в них какого-либо смысла, перед тем как занять посты на воротах и дверях помещения.
После расчистки стал ясен дальнейший план работ… Подумать только, последний этап перед настоящей жизнью. Какие открываются просторы!! 150 квадратных метров! Своих! Здесь будет булочная, там кафетерий, там и тут – перегородки, столовая, моечная, цех.
Так начался новый этап и долгие месяцы без отдыха. Собранные с учредителей деньги начали уходить как вода – требовался кирпич, цемент, песок и глина, стекло и дерево, арматура и уголок. Тогда-то я и начала понимать, что не зря мне даны сыновья. Женя очень быстро договорился насчёт стекла и цемента, плитки и арматуры, лесов и кирпича.
Главную трещину залатали, проломив дымоход и заложив кирпичом, приглашённые штукатурщицы заштукатурили стены и подоконники, дыры, зияющие там, где вывалился кирпич. Подправили потолок и в коморке. В общем, как мы и предполагали, работа спорилась.
Наше детище стало принимать пристойный вид: некогда полуобрушенные подоконники на прикосновение отвечали приятной шероховатостью свежей штукатурки. К ним бы теперь подобающие окна вместо прогнивших…
2 сентября 1991, проработав на одном заводе 35 лет, я очень достойно попрощалась с дорогим мне трудовым коллективом… Это было ожидаемое событие, подготовка к нему шла давно. Строгий белоснежный английский костюм помог мне запомниться своим коллегам красивой. Прощаться тяжело, но… 3 года не доработав до пенсии, я уволилась. Теперь у нас в семье стало двое безработных и студент, которым предстояло самостоятельно выживать в новых условиях.
Жила и работала в свободном режиме. С удовольствием вязала на машине по заказам и вышивала. Сама продавать изделия не могла и не хотела из-за накатывающего чувства стыда и брезгливости к этому «неблагородному делу». Рукоделие позволяло зарабатывать на еду и на сырьё (пряжу, бижутерию, ткани). Деньги давались относительно легко – примерно в три раза больше, чем на заводе. А главное – настроение. Меня переполнял оптимизм. Всё получалось по плану, первая половина года шла прекрасно: я работала дома, на даче, обшивала и обвязывала всю семью, что при наших скромных запросах всех удовлетворяло. Ничего лишнего мы себе не позволяли, конечно, было не до шоколада и покупок обуви и одежды. Но так мы были настроены, затевая дело.
Невозможно надышаться воздухом свободы! Коллеги при встречах в эти первые полгода говорили, что я очень посвежела, похорошела.
Пока создавались запасы стройматериалов, закупался уголок для новых окон, у нас стали заканчиваться деньги и назревало новое приключение – ссуда. Разговор о ней велся давно, но теперь вопрос встал особо остро, ведь вложений требовали и станок, и постоянно увеличивающийся объем ремонта.
6 сентября 1991 года Промстройбанк выдал нам кредит на 60’000 рублей под залог нашей дачи и машины одного из учредителей. Мы никогда в жизни не держали в руках таких денег и очень боялись, ставя на карту дачу – нашу кормилицу. Однако финансы открывали новые возможности. Быстро закупался металл, трубы, цемент и прочее. Евгений приобретал стиральный порошок и сигареты, которые выгодно обменивал на стройматериалы. В результате мы существенно экономили.
Что думать о плохом, есть деньги – быть и работе! Мы предупреждали работников, что зарплата будет выплачена, лишь когда у фирмы будут собственные средства, но это не мешало ежедневно в любую свободную минуту всем бежать в нашу обитель и, быстро переодевшись, включаться в дело. Привлечённый сварщик сделал рамы, в них быстро вставили уже нарезанное стекло, укрепили его остатками реек со старых окон, замазали оконной замазкой и покрасили. За два дня окна стали украшением зала. С полом было чуть сложнее. Его выравнивали, укрепляли, связав арматурой, а затем хорошенько проливали качественным раствором.
Поскольку работ по сварке становилось всё больше, в помещении обосновался сварочный аппарат Олега, моего племянника, и сварку постепенно освоил сын Алексей. Добавилась ещё пара рук, в итоге аппарат не простаивал. Так же активно замешивался вручную бетон. Дело, возможно, шло бы быстрее, да хотелось красоты. Своим умом и руками создавалось нечто новое, многообещающее. И всё равно мы спешили как могли.
Рождались новые идеи, например мысль о медных узорах, вкраплённых в пол между разноцветными частями бетона. Поэтому мы завезли цветной цемент, мраморную крошку, медные полосы и стекло, чтобы выложить красивые фигуры и сделать пол произведением искусства. Мешать бетон с мраморной крошкой оказалось намного сложнее, но это не останавливало. Все были готовы отдать последние силы, но сделать то, на что раньше не было возможности, цель вдохновляла на подвиги.
Проходило время, и, наконец, мы залили пол. Его незаконченность выдавала то здесь, то там выступающая крошка. Женя уже договорился об аренде шлифовальной… то есть «дьявольской машины», как её мы окрестили. Перед тем как браться за ручки устройства, мы закрывали окна щитами и сами ходили позади агрегата, потому что «наждакомёт» так и норовил выкинуть увесистый наждак в любого, кто находился поблизости. Потихоньку Олег приноровился, и первый метр готового пола мы вместе с радостью и гордостью за красоту отмывали от мраморной пыли и песка. Затем машина стала поддаваться и нашему младшему сыну, оставшуюся целину доверяли шлифовать только ему.
Когда был наведён порядок, завершён пол, сделаны перегородки и помещение приняло товарный вид, наступил следующий этап – гордо продемонстрировать детище сотрудникам СЭС, чтобы получить разрешение на установку станка и работу кафетерия.
Эта попытка оказалась ударом – в арендованном здании никогда не было центральной канализации, а временная заключалась в том, что воду просто сливали в подвал. СЭС запретила нам открывать кафетерий и, естественно, производить чипсы. Для уже готовых громоздких узлов: рамы, жаровни, двигателей, шнека с блоком подачи – необходимо было найти новое помещение, а с таким трудом выстраданную обитель использовать для иных целей.
Неужели Вы думаете, что это нас остановило?! Удар стал очередной развилкой на пути, которым мы даже не шли, а бежали… Мы отчётливо понимали, что, не имея возможности открыть кафетерий, не имеем возможности и зарабатывать, а помещение уже «съело» не только наши деньги, но и заёмные, и ему не терпелось начать их возвращать!
Под автомат была найдена другая площадка, и вскоре там закипела работа. Заказанные детали потихоньку ставились на место, а Гена с Виктором, моим другом и шикарным инженером, с нетерпением ждали очередных. Станина обрастала узлами, редукторами и жаровней. Станок оставался нашей главной надеждой и гарантией будущего.
Евгений по очень хорошей цене купил 2 тестомеса, 20 бочек. Потихоньку мы вновь стали собирать кто что может. Виктор где-то добыл электромясорубку, ещё один учредитель – трубы для канализации, сватья продолжала снабжение щебёнкой и песком. Да разве всё перечислишь?! Сколько же было энтузиазма, веры, надежды. Всё имеющееся свободное от основной работы время отдавалось созиданию своего дела. Работали бесплатно, не ожидая в течение года никаких благ в надежде, что уж после-то получим моральное и, конечно, материальное удовлетворение.
Пока же предстояло придумывать способы рассчитываться за кредит. Быстро возник чертёж, а по нему сварена коптильня. Из имеющихся обломков кирпича и кусков труб соорудили дымоход, Виктор установил ТЭНы, а Евгений закупил несколько мешков «правильных» опилок. Нашлись и те, кто по дешёвке начал поставлять мясо, следом подтянулись желающие его покупать. Ещё держащий позиции дефицит толкал людей на покупку любой продукции, которая могла бы хоть как-то разнообразить их рацион, и, главное, без привычных очередей. Коптильня работала без остановок, сутками напролёт. Мы установили дежурство. Смоченные водой опилки периодически укладывались на ТЭНы, и дальше оставалось лишь контролировать температуру, включая и отключая электричество. Хорошие куски копченостей мы продавали, на эти средства приобретали всё необходимое, платили за аренду, тепло, свет. Плохие куски съедали сами. А из сала, которое скапливалось на полу коптильни, я делала хозяйственное мыло, которое использовали для мытья посуды.
Следующим этапом была закупка у овощехранилища свежей капусты по хорошей цене, теперь ещё одна бригада стала работать на засолке. Соленья делали по 20 стокилограммовых бочек за раз, а затем поставляли ресторанам и знакомым. Также получалось продавать свежую капусту. Это уже были какие-то реальные дела, приносящие доход и позволяющие немного передохнуть от долговых тисков.

