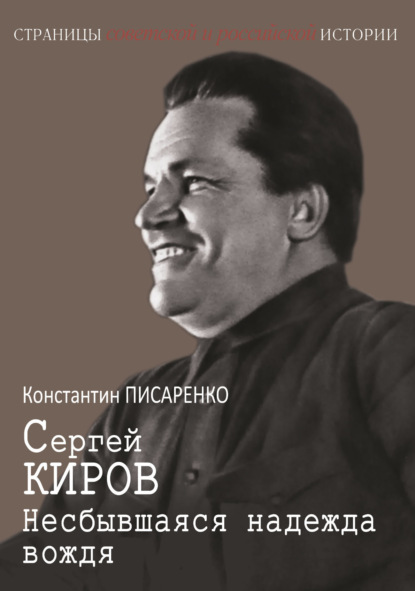
Полная версия:
Сергей Киров. Несбывшаяся надежда вождя
Проживал Сергей тем летом «в обществе книгопечатников», в доме Кочетова на Болоте (район Томска), у матери Иосифа Кононова. Разделить с собой кров предложил новому приятелю – Михаилу Попову, недавно приехавшему из Красноярска. Познакомились они раньше, после возвращения Попова из ссылки в родной Туринск накануне нового, 1905 года. Правда, узнанный жандармом, он едва избежал ареста на демонстрации 18 января, почему и исчез через месяц.
Михаил Попов – жених, затем законный супруг Фрейды Суссер, после замужества ставшей Ниной Ильиничной Поповой. Нетрудно догадаться, чем прежде всего вызвано сближение двух молодых людей. Оба питали нежные чувства к двум подругам, и благодаря Попову Костриков имел возможность чаще видеть Надежду Блюмберг. Об их отношениях в 1905 году мы почти ничего не знаем. Крамольников в воспоминаниях аккуратно назвал её «большим другом Кирова». Но и Киров ей, и она Кирову была больше, чем друг. Однако если у Попова с Суссер все сложилось, то у Кострикова с Блюмберг нет. Надежда Германовна примерно через год осознанно или в сердцах совершит явно опрометчивый шаг, который не лучшим образом отразится на судьбе нескольких человек, в том числе и нашего героя[40].
Ну а пока на дворе 1905 год, и главная цель членов Томского комитета РСДРП – всеобщая стачка железнодорожников Сибири. Во второй половине лета она вот-вот должна осуществиться. 27 июля 1905 года замерли депо и мастерские Читы, 9 августа – Иркутска, 11 августа – Красноярска. Костриков с товарищами немедленно обратился к рабочим станции Тайга с просьбой поддержать движение[41]. Тайга как раз расположена на Транссибе, на перегоне Ново-Николаевск – Красноярск. Ясно, что коллективу станции следовало продолжить почин, чтобы волна забастовки пошла дальше, на Ново-Николаевск, Омск, Курган, Челябинск, и свершилось то, что не получилось в январе, – всеобщая стачка Сибирской железной дороги.
На станцию Тайга отправились лучшие кадры Томского комитета – М.А. Попов, И.В. Писарев и С.М. Костриков. В течение трех месяцев – августа, сентября и октября – они были там частыми гостями. Слесарь депо и помощник машиниста П.А. Носов оставил любопытные воспоминания о трех «студентах»: двоих «в форме технологов» и одном «просто одетом». «Просто одетого» в поношенную кожаную тужурку с шарфом, в сапогах и «шапке барашковой пирожком» звали Сергеем. Его железнодорожники «сразу полюбили, потому что он говорил на простом языке и доходчиво». К нему привязались и слушались лишь его, почему он отлучался в Тайгу нередко в одиночку, без напарников, привозя «марксистскую литературу, листовки, газеты». Прятал Сергей Костриков (рабочие быстро выяснили фамилию «любимца») все «на крыше депо под стропилами». Спрятал так, что обнаружили эту «библиотеку» уже в 1920 году, во время ремонта депо.
По свидетельству Попова, именно в Тайге Киров дебютировал как оратор «перед открытым большим собранием». В ремонтном цеху, на виду сотен рабочих, стоя на «передней площадке паровоза», Костриков пламенно агитировал примкнуть к всеобщей стачке и «образовать боевую дружину». И в итоге завоевал полное доверие. Хотя выступал перед рабочими всего лишь парнишка девятнадцати лет, ребята из мастерских и паровозных бригад прониклись к нему такой симпатией, что с удовольствием приглашали к себе на квартиры переночевать. Костриков рассказывал им о том, что происходит в России и на Дальнем Востоке, о стачках, как недавних, так и прошлых времен, к примеру, о морозовской 1885 года, «разоблачал меньшевистскую платформу».
Особенно зачастил Костриков к тайгинцам в октябре 1905 года. Не убеждать, а помогать с присоединением станции к всероссийской октябрьской стачке, которая до Томска докатилась 13‐го числа. Рабочие опасались, что их заменят штрейкбрехерами со станции Боготол. Сергей тут же поехал туда, поговорил с местными путейцами. Они согласились не откликаться на заманчивые посулы железнодорожной администрации…
Очередной митинг в депо станции Томск 19 октября отправил в Тайгу целую делегацию, дабы «восстановить связь с главной линией и осведомиться о положении дел там». Естественно, Сергей сопровождал её как самый авторитетный эсдек среди тайгинских железнодорожников. На том же маневровом (паровоз и два вагона) группа вернулась в Томск днем или под вечер 20 октября. Причем тот, кто сообразил сойти в Межениновке вместе с Костриковым, избежал встречи с полицией и ареста на станции Томск. А от платформы Межениновка до Новотроицкой площади километра четыре-пять пешком. П.А. Носов, помощник машиниста на том маневровом, вспоминал: «С этим же поездом прибыл с нами Сережа… В этот [день] была совершена гнусная провокация, которой я был лично свидетелем… Эти подлецы организовали поджог здания управления Сибирской дороги… Лично я был очевидцем этой кровавой картины, и никто не вышел живым из этого здания…»[42]
7. Горький урок, пошедший впрок
Погоня революционеров за массовостью обернулась страшной трагедией. Томск – не промышленный центр, а скорее ремесленный и, конечно, торговый. Социал-демократы помимо студентов имели всего две реальные опоры – железнодорожников двух станций в пределах города (Межениновка, позднее переименованная в Томск-I, и Томск, ставшая Томск-II) и печатников семи типографий. Прочие заводики и мастерские (лесопильные, столярные, слесарные или та же спичечная фабрика Евграфа Кухтерина) в силу малочисленности коллективов и практически полной зависимости наемных рабочих от хозяина сознательными сторонниками РСДРП быть никак не могли. Что уж говорить о мелких мастерских, если за революционерами не шли даже томские телефонисты и электрики…
Отсюда и «увлечение» Кострикова с товарищами «снятиями». В июле метод принуждения к «солидарности» вроде бы себя оправдал. Власти забастовку заметили, пойдя на ряд уступок. Естественно, в октябре члены Томского комитета воспользовались прежним опытом с той разницей, что прежде по улицам города ходили, «закрывая» магазины и ремесленные цеха, рабочие типографий, а теперь за дело принялись железнодорожники при содействии гимназистов и студентов. Однако летом все протекало относительно мирно и к тому же быстро закончилось. А в октябре ситуация с каждым днем лишь накалялась, парализуя и органы управления, и привычную жизнь города.
«Сержа», как именовали нашего героя соратники, подобное развитие событий наверняка радовало. Вот он, момент истины! Вот сейчас, наконец, народ поднимется, возьмется за оружие и сметет царский режим! Увы, чаша терпения томского обывателя действительно переполнилась, но виновника всех бед он увидел не в царских сатрапах и вероломной буржуазии, а в тех, кто в течение целой недели силком тянул его в революцию: социалистах и примкнувших к ним студентах с железнодорожниками.
Мещанский Томск восстал, вышел на свою демонстрацию с хоругвями и портретами царя 20 октября. На Новособорной площади у Троицкого собора толпа атаковала отряд из полусотни дружинников-социалистов, посланных думской управой охранять митинг в городском театре купца Королева. Дело в том, что театральные сцена и зал за неделю превратились в томский Гайд-парк, место проведения ежедневных митингов. А городская полиция накануне фактически самоустранилась от исполнения обязанностей, и городской думе пришлось самой наскоро сколотить что-то наподобие милиции. В неё записывались студенты, техническая интеллигенция, делегаты от эсеров и социал-демократов. Большинство в той же форменной одежде, в какой на днях агитаторы заставляли простых смертных бросать работу ради победы революции…
На них-то и напали озлобленные обыватели. Милиционеры ответили выстрелами из револьверов, после чего укрылись в соседнем с театром здании, где обосновалось начальство Сибирской железной дороги и где в те часы находилось несколько сот сотрудников, ожидавших выдачи жалованья. Толпа, состоявшая из вчерашних бастующих поневоле приказчиков, портных, шляпников, плотников, грузчиков, сторожей, половых и кустарей, поспешила окружить трехэтажный особняк и после недолгой осады подожгла. Всех, кто пытался покинуть горящий дом, избивали, а кого-то убивали сразу. Из ловушки мало кому повезло вырваться целым и невредимым. По легенде, юный Костриков вывел из охваченного пламенем управления «большую группу товарищей»…
Всего той ночью погибло около семидесяти человек. В здании ЖДУ сгорело десять – пятнадцать, остальных растерзала обезумевшая «чернь». Она видела перед собою не убежище «милиционеров», а «осиное гнездо» заговорщиков. Ведь с чинов канцелярии службы тяги Сибирской дороги в три часа дня 13 октября и началась всероссийская стачка в Томске. Так что сотрудники казались если не революционерами, то их пособниками, и убивали всех подряд безжалостно и жестоко…[43]
Кострикова, по счастью, среди дружинников не было. Он еще не вернулся со станции Тайга и потому избежал то ли гибели, то ли «подвига». Появился в Томске Сергей вечером 20 октября и вместе с Носовым мог застать только страшный финал расправы – два пылающих здания на Новособорной площади в окружении озверевшей толпы. Правда, по свидетельству М.А. Попова, Костриков «с линии… вернулся утром 20 октября». «Утро» указано, чтобы оправдать версию, что наш герой выбрался «с горстью вооруженных дружинников, пробившись через кольцо осаждавших». А оно плотно замкнулось часам к трем дня.
Кроме Попова, об аналогичном «прорыве» поведали томские большевики-подпольщики М.К. Ветошкин, Г.Д. Потепин и Г.И. Шпилев. Первый – в заметке для газеты «Правда» в номере от 4 декабря 1934 года, второй и третий – в воспоминаниях. Очевидец событий – лишь Шпилев. Ветошкин после короткого пребывания в мае – июне 1905 года в Томске перебрался в Читу. Потепин 20 октября 1905 года шел в театр Королева на митинг с пачкой листовок, но не дошел, вовремя предупрежденный неким «членом партийного комитета» о том, что творится на Новособорной площади. Попов также опирался не на личные впечатления (20 октября он провел «в Иркутске, на съезде»), а на «описания», которые «неоднократно давались в печати».
Остаются откровения Шпилева. Они принадлежат участнику «прорыва». Однако Костриков включен в канву рассказа явно искусственно. Он появляется всего два раза, чтобы, во-первых, убедить «дружинников не сдавать оружия», а женщин не покидать здание, во-вторых, руководить выводом гражданских из горящего особняка через черный ход. Из слов мемуариста вытекает: студент А.А. Нордвик – формальный лидер дружины, а настоящий – Костриков. Проблема в том, что до 1934 года никто так не считал. Наоборот, современники единодушны: командовал милиционерами Нордвик. Даже лидер томских большевиков В.М. Броннер признавал в 1925 году «начальником отряда» не Кострикова, а Нордвика. Да и сам Шпилев в письме от 30 октября 1905 года, описав все примерно так же, как и в 1935 году, Кострикова не упомянул ни разу, а «нашим командиром», «бедным страдальцем», «слишком» «великодушным» «для этих разъяренных людей», называл Нордвика.
Действительно, не Киров, а Нордвик руководил в шесть часов вечера выводом прибившейся к дружинникам группы людей, спустя десять минут после снятия у черного хода воинского караула (все, чем могло помочь осажденным не контролировавшее подчиненных военное командование). Отгоняя «черносотенцев» выстрелами, милиционеры на короткое время расчистили путь для гражданских. Затем ринулись в отчаянную атаку сами. В 1935 году Шпилев объявил, что выбежал вместе с Костриковым. В 1905 году он написал: «После всех выходил я с Чистяковым». Через погромщиков и поддержавших их огнем казаков и солдат пробились не все. Шпилеву и Чистякову повезло, а Нордвик погиб… Кстати, Алексей Ведерников, который у Шпилева в редакции 1935 года выступал в роли помощника Кострикова, спасся совсем не героически: притворился громилой, стащившим из управления «самовар и кой-какое тряпье». Приняв за своего, толпа его не тронула…
Судя по всему, все четыре мемуариста зачислили Кострикова в дружину «городской охраны» под нажимом сверху, из ЦК партии. В советском биографическом каноне Кирова явно не хватало такого подвига, почему сибирякам и пришлось покривить душой[44].
Как бы Костриков ни узнал о трагедии, она очень сильно подействовала на него. Народ, простой народ, о свободе которого так ратовал он с товарищами, с яростью набросился на своих освободителей. Тут поневоле вспоминалось предупреждение «ренегата» Гутовского, услышанное им на июньской конференции. «Безнадежное дело»! И вправду, безнадежное. Что-то «освободитель» Костриков с товарищами сделал не так, в чем-то ошибся. Но, разумеется, в листовке, которую типография «Сержа» напечатала от имени Томского комитета РСДРП с несколько длинным названием («Конституция и гнусные преступления царских башибузуков»), ни слова раскаяния, ни намека на собственный промах. По версии убежденного революционера, во всем виновата власть – томский губернатор В.Н. Азанчевский-Азанчеев, желавший «расправиться с «крамольниками», «сжечь их живыми». Губернатор «мог разогнать толпу негодяев, поджигавших здание… мог увести казаков, стрелявших в осажденных», но ничего не предпринял.

Сгоревшее здание управления. [Из открытых источников]
Да нет, пытался, хотя и без должного рвения. Да и кто стал бы его слушать, когда толпа кричала: «Мы голодны, а они бунтовать, забастовки делать» – и продолжала избивать и убивать студентов и железнодорожников. При явном сочувствии солдат 4-го сибирского запасного батальона и казаков 1-й сотни Красноярского полка, выведенных к Троицкому собору на Новособорную площадь. Как докладывал 16 ноября в Петербург Азанчевский, «к самому… зданию в толпе замечалось какое-то ужасное озлобление и ненависть, слышны были крики о тяжелых последствиях забастовок, и о том, что в горящем здании не оставят камня на камне». Но, главное, «настроение нижних воинских чинов… было всецело на стороне толпы… офицеры не имели никакой возможности принудить их действовать решительно для усмирения народного восстания».
Увы, решающей стала именно позиция рядовых военных, в подавляющем большинстве выходцев из крестьян той же Томской губернии. При откровенном попустительстве, а то и содействии солдат и казаков, игнорировавших распоряжения своих офицеров, «озверевший» обыватель сотворил свое «возмездие»[45]. Кстати, в Красноярске 21 октября едва не разыгралась аналогичная трагедия. Осажденных в Народном доме забастовщиков спасли от поджога и расправы солдаты 2-го железнодорожного батальона, набранного из рабочих-путейцев и переброшенного в Красноярск из Барановичей в августе 1905 года[46]. В Томске подобного батальона, к сожалению, не оказалось…
Непросто давалось Кирову осознание ошибки, которая едва не подвела его самого под дубины и палки «несознательных» томичей. Стоило ли ему с единомышленниками так упорствовать с организацией всеобщей стачки? Ведь закупорка Транссиба поколебать государственные устои могла зимой – весной 1905 года. Теперь, спустя полгода, «поезд ушел». Война с Японией завершалась, и сибирская магистраль утратила первостепенное значение. Бесперебойного снабжения войск более не требовалось, а значит, всеобщая стачка Сибирской дороги смертельный удар самодержавию не нанесла бы. И уже тем более бессмысленно было призывать к забастовке томских приказчиков, официантов, цирюльников, швейцаров, булочников, рестораторов и иных им подобных. Даже участие слесарей и токарей не железнодорожных мастерских, в принципе, мало на что влияло. Так что со «снятиями» Томский комитет РСДРП перемудрил. Добытая таким способом «всеобщность» оказалась весьма опасной для революционеров и совсем ненужной для революции…
Конечно, Костриков с товарищами мог ощущать причастность к общей политической победе. Железная дорога на протяжении всей сибирской и забайкальской линий замерла. То, чего добивались без малого год, вдруг получилось в кратчайший срок, всего за полторы недели. Сибиряки и их коллеги с других окраин империи на волне общего воодушевления, несомненно, помогли достичь цели, которая объединяла тогда влиятельную часть крупного капитала и социал-демократов. Николай II 17 октября подписал знаменитый манифест о свободах. Правда, решающую роль в принуждении самодержца сыграл московский транспортный узел, а отнюдь не сибирский.
8. Что дальше?
В какой степени Сергей Костриков осознавал политическую ситуацию в целом и уместность революционного «инструмента» в тех или иных конкретных обстоятельствах? Похоже, что такое осознание пришло к нему далеко не сразу, а с обретенным с годами опытом. А когда пришло – то заставило сильно изменить отношение к собственному радикализму томского периода. Свидетельство тому – его автобиография, где он назвал имена «товарищей», с которыми связался «по приезде в Томск» в сентябре 1904 года. Это не Иосиф Кононов и не Григорий Крамольников. Киров в скобках написал: с «М. Поповым, Сухоруковым и др.»[47]. Ясно, что память его не подвела. Сергей Миронович умышленно объявил не тех, с кем в действительности «связался» и кто увлек юношу на путь крайнего радикализма.
Кто такой Михаил Александрович Попов, мы уже знаем. К известному добавим, что он, немногим старше Кирова (1883–1958), один из основателей в 1902 году томской группы социал-демократов, «искровцев», вел кружки политического образования среди железнодорожников. Познакомился с молодым подопечным Гриши Пригорного (Крамольникова) по возвращении из Туринска в декабре 1904 года. А близко сошелся летом 1905‐го. Они вместе изучали материалы II съезда РСДРП, чтобы понять причины раскола на большевиков и меньшевиков, сообща организовывали «массовки» и обсуждали текущий момент на заседаниях фракции большевиков[48].
Похоже, Попов, помимо прочего, произвел на Кострикова весьма сильное впечатление как человек, как партийный организатор и агитатор. Будущий народный трибун многое почерпнул и перенял у него. Но если Попов был большевиком, то второе упомянутое в автобиографии лицо – Антон Фомич Сухоруков – являлся в Томском комитете РСДРП «определенным сторонником Мартова». То есть меньшевиком, причем «заядлым». А на момент описания Кировым своего прошлого считался «враждебно настроенным против большевиков обывателем». Именно под началом или опекой Фомича, члена Сибирского союза (союзного комитета), наш герой и вел подпольную работу в Томске с января по октябрь 1905 года. Он хорошо изучил «шефа» и знал, что тот ратует за сотрудничество с либералами, за участие в выборах в Государственную думу и, главное, не одобряет скоропалительных, несвоевременных «вооруженных восстаний».
Именно по настоянию Сухорукова утром 20 октября 1905 года Союзный комитет, невзирая на возражения большевика В.М. Броннера, постановил митинг в театре Королева отменить, а забастовку в городе прекратить. Не послушайся Солдата комитет, на Новособорной площади могла случиться страшная бойня с куда большим числом жертв. Солдат – партийная кличка Сухорукова, талантливого агитатора. Весной 1906 года он сумел распропагандировать инженерные части иркутского гарнизона до такой степени, что власти окрестили брожение среди них «восстанием понтонеров», попытались зачинщика волнений арестовать, однако тот успел выехать из города[49]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Вестник Верховного Суда СССР. 1991. № 5. С. 1, 5.
2
Емельянов Ю.В. Сталин. На вершине власти. М., 2018. С. 77–79, 86–88.
3
Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930–1953. М., 2003. С. 84, 88.
4
Эхо выстрела в Смольном. М., 2017. С. 51, 500, 501.
5
Ларина-Бухарина А.М. Незабываемое. М., 2002. С. 26. Реплика Л.К. Шапошниковой, жены М.С. Чудова, второго секретаря Ленинградского обкома.
6
Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на XX съезде КПСС. Документы. М., 2002. С. 68–70, 506, 522.
7
Правда. 1964. № 38 от 7 февраля 1964; Известия ЦК КПСС. 1989. № 7. С. 114–121; XXII съезд КПСС. Стенографический отчет. М., 1962. Т. 2. С. 583.
8
Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. Политический портрет И.В. Сталина. М., 1989. Кн. 1. Ч. 2. С. 95; Кирилина А.А. Неизвестный Киров. СПб.—М., 2001. С. 323.
9
Иванов А.М. Логика кошмара. М., 1993. С. 69–77.
10
РГАСПИ. Ф. 80. Оп. 10. Д. 18. Л. 1.
11
Известия. 1939. № 277 от 1 декабря; Гатуев К.А. Избранное. М., 1970. С. 190, 191; Терский календарь на 1912 год. Владикавказ, 1911. Ч. 1. С. 13, 18; Ч. 3. С. 91; Терский календарь на 1913 год. Владикавказ, 1912. Ч. 3. С. 123.
12
Кострикова А.М., Кострикова Е.М. Это было в Уржуме. Киров, 1962. С. 3—21, 24–30, 35, 41; Киров и время. Л., 1986. С. 21; Виртуальная выставка. С.М. Киров. Детские и юношеские годы. К 135-летию со дня рождения (фото и документы). Киров, 2021. Часть 4. Годы учебы.
13
Костриковы А.М. и Е.М. Это было в Уржуме. Киров, 1962. С. 42, 51.
14
РГАСПИ. Ф. 80. Оп. 1. д. 55. Л. 2, 2 об.; Костриковы А.М. и Е.М. Это было в Уржуме. Киров, 1962. С. 53–57, 96.
15
РГАСПИ. Ф. 80. Оп. 1. Д. 51. Л. 2.
16
РГАСПИ. Ф. 80. Оп. 10. Д. 18. Л. 1, 2.
17
Костриковы А.М. и Е.М. Это было в Уржуме. Киров, 1962. С. 5, 8, 57, 84; Рассказы о Кирове. Сборник воспоминаний. М., 1976. С. 32.
18
РГАСПИ. Ф. 80. Оп. 1. Д. 51. Л. 1, 5, 5 об.; Д. 53. Л. 1–5; Костриковы А.М. и Е.М. Это было в Уржуме. Киров, 1962. С. 58, 64–68; Правда. 1935. № 330 от 1 декабря; Вечерняя Москва. 1934. № 279 от 5 декабря.
19
Костриковы А.М. и Е.М. Это было в Уржуме. Киров, 1962. С. 84, 86, 87; Рассказы о Кирове. М., 1976. С. 31, 32.
20
РГАСПИ. Ф. 80. Оп. 1. Д. 53. Л. 2, 4–5; Д. 56. Л. 1.
21
РГАСПИ. Ф. 80. Оп. 27. Д. 1. Л. 1, 2 об.
22
РГАСПИ. Ф. 80. Оп. 10. Д. 18. Л. 2; Костриковы А.М. и Е.М. Это было в Уржуме. Киров, 1962. С. 72, 73,
23
РГАСПИ.Ф. 80. Д. 50. Л. 3, 3 об.; Д. 51. Л. 1 об.
24
РГАСПИ. Ф. 80. Оп. 10. Д. 18. Л. 2; Список студентов Томского технологического института императора Николая II. Томск, 1903. С. 115; Костриковы А.М. и Е.М. Это было в Уржуме. Киров, 1962. С. 91–94; Товарищ Киров. М., 1935. С. 29; Комсомольская правда. 1934. № 283 от 8 декабря.
25
РГАСПИ. Ф. 80. Оп. 1, Д. 52. Л. 1; Оп. 10. Д. 18. Л. 2; Костриковы А.М. и Е.М. Это было в Уржуме. Киров, 1962. С. 95; Товарищ Киров. М., 1935. С. 30; Пролетарская революция. 1935. № 5. С. 73.
26
РГАСПИ. Ф. 80. Оп. 27. Д. 1. Л. 1, 1 об.; Товарищ Киров. М., 1935. С. 30; Пролетарская революция. 1935. № 5. С. 73.
27
Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. Томск, 1967. Вып. 4. С. 42, 43, 47, 48; Киров и время. Л., 1986. С. 29; Пролетарская революция. 1935. № 5. С. 74.
28
РГАСПИ. Ф. 80. Оп. 10. Д. 18. Л. 2, 3; Пролетарская революция. 1935. № 5. С. 73–75; Товарищ Киров. М., 1935. С. 29.
29
Подробнее о событиях 18 января и 20 октября 1905 года см.: Шиловский М.В. Томская демонстрация 18 января 1905 г. // ГЕО-СИБИРЬ. 2009. Т. 6. С. 296–306; Шиловский М.В. Томский погром 20–22 октября 1905 г. Хроника, комментарий, интерпретация. Томск, 2010.
30
Из истории Сибири. Томск, 1974. Вып. 14. С. 37, 40; Сибирская жизнь. 1906. № 10 от 14 января.
31
Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке. Томск, 1967. Вып. 4. С. 46, 48–50; Пролетарская революция. 1935. № 5. С. 77; Баранский Н.Н. Социал-демократическое движение в Сибири в эпоху революции 1905 г. // Северная Азия. 1926. № 5–6. С. 84, 85.
32



