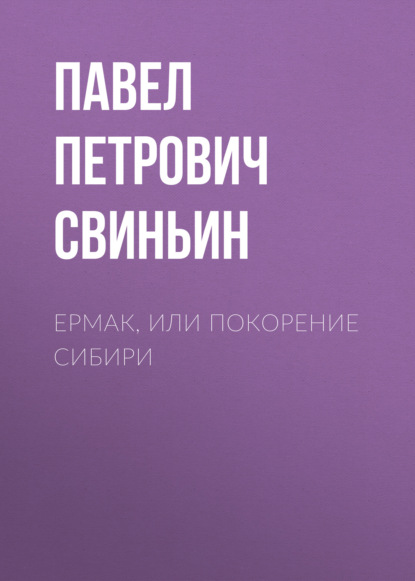 Полная версия
Полная версияЕрмак, или Покорение Сибири
– Что ты хочешь сказать? – спросил дьяк, приметно встревоженный последними словами злобного Ласки.
– Так, ничего, Денис Васильевич, я только шепнул атаману Мещеряку да есаулу Самусю, что молодец-то этот, не опальный ли Ситский, который ушел от нас назад тому года с четыре?
– Ты просто врешь – неужто у всех нас глаза хуже твоих, да мы его не узнали.
– А я так узнал и не ошибся: он, точно он. Не годится молокососу, да притом и опальному, подымать нос перед пожилыми людьми. Он и шапки не гнет, встретясь когда с нашим братом – старым слугой государя Максима Яковлевича, и Мещеряка в ус не ставит, даром, что тот на Дону был старее самого Ермака Тимофеевича. Не помогут ему ни приятель его колдун Уркунду, ни покровитель атаман Кольцо: даст бог, согнем в дугу…
Беспокойство, замеченное на лице сурового дьяка при начале разговора о Ситском, увеличивалось час от часу более. Наконец, при последних угрозах Ласки он вскочил со своего стула и, приказав ему никуда не отлучаться, вышел проворно вон.
– Эге-ге! – заметил подьячий, смотря подозрительно вслед старику. – Он что-нибудь затеял недоброе. Сбегаю-ка посоветоваться с Матвеем Федоровичем.
Денису Васильевичу стоило перейти широкие сени и растворить двери, обитые красным сукном, чтобы очутиться в светлице Максима Яковлевича. Не найдя его в приемной горнице, он заглянул за занавеску, коею, как мы видели, отделялась опочивальня именитого человека. Максим Яковлевич отправлял утреннюю свою молитву: он стоял на коленях пред образом Спасителя и с усердием читал благодарственную молитву Господу Богу за осеяние светом дня сего. На цыпочках потихоньку отошел Орел к окошку и, закинув руки за спину, устремил взоры свои на двор. Он оставался в том бесчувственном положении, в коем, смотря во все глаза, ничего не видишь, а потому во всякое другое время смешная сцена, как прокрадывался по забору подьячий в избу Мещеряка, обратила бы его внимание. Теперь же промелькнула она как призрак. Легкий удар по плечу вывел его из остолбенения; он обернулся и, увидав перед собой Максима Яковлевича, низко ему поклонился.
Максим Яковлевич был одет в черное бархатное полукафтанье, подбитое драгоценными соболями. Он был мужчина лет пятидесяти, среднего роста; небольшая русая борода не скрывала благообразия и приятной выразительности лица полного, нежного. Голубые глаза его, хотя не блистали огнем, но исполнены были ума и сердечной доброты. Приветливость была на устах его; так что Максима Яковлевича можно было включить в небольшое число людей, которые вежливостью и лаской не страшатся утратить своего величия или поверхности. Он постигал тайну великих людей – действовать любовью на своих подчиненных. Правду сказать, эта истина дошла и до нас, и теперь простота и обходительность отличают незаимствованное достоинство вельможи; спесь и чванство обличают незаконность его возвышения!
– Что ты призадумался, Васильич? – спросил ласково Орла именитый человек.
– Обо многом нужно утруждать тебя, отца-государя, – отвечал он с поклоном.
– Говори, ты знаешь, что я люблю с тобой беседовать.
– Велика милость, отец-государь, да, вишь, я-то ее не стою и принес свою повинную голову…
– Наперед прощаю тебя, – промолвил Строганов с улыбкой.
– Беда, да и только!
– Постараемся ее исправить. Скажи скорее, в чем дело?
– Поведаю тебе, батюшка Максим Яковлевич, что я обманул тебя в первый и последний раз.
– Признаюсь, Васильич, я не знал, что ты умеешь кривить душой.
– Не говори уж, батюшка, попутал грех. Помнишь ли ты, как приезжал опричник с царской грамотой о выдаче ему молодого князя Ситского, что приводил в Чердынь стрелецкую дружину? Признаюсь, отец-государь, я скрыл его и выслал на Дон под именем казака Грозы, пропавшего без вести в Пелыме.
– Что ж тут преступного?
– Царь Иван Васильевич прогневался на тебя, но скоро смиловался. Боюсь, чтоб гнев его царский не пал теперь на тебя пуще прежнего, когда донесут, что он у нас.
– Какая нужда! Старайся только, опальный, чтоб его не узнали.
– То-то и беда, отец-государь, что его узнал подьячий Ласка, а он ужас как зол и болтлив, молва может дойти до воеводы царского в Чердынь.
– За меня не бойся, Васильич, отделаемся как-нибудь от опалы царской, старайся только спасти молодца. Скажу признательно, что я сам к нему давно уже признался, несмотря на его бороду и казацкие ухватки.
– Как же прикажешь поступить с ним?
– Подумай сам, а мне кажется всего лучше услать его поскорее в чусовские городки. Ужо поговорю с Ермаком Тимофеевичем.
Но Ермак Тимофеевич был легок на помине: он внезапно взошел в светлицу, перекрестясь трижды, почтительно поклонился Строганову, а Максим Яковлевич, ласково поцеловавшись с атаманом, просил его садиться в переднем углу.
Ермак был задумчив: молча занял он предложенное ему место, ожидая как бы вопроса. Строганов также молчал, как бы стараясь отгадать причину его посещения.
Сметливый Денис вывел их из затруднения. Приблизившись к атаману, он сказал ему, кланяясь в пояс:
– Бог нанес тебя, батюшка Ермак Тимофеевич, как привелось нам думать думу великую.
– Радуюсь, когда могу быть полезен словом или делом Максиму Яковлевичу, – отвечал Ермак.
– Я хотел спросить твоего совета, Ермак Тимофеевич, как спасти твоего молодца – Грозу, от великой напасти, – сказал Строганов. – Его признали за опального князя Ситского, которого по царскому велению обязаны мы представить чердынскому воеводе. Злые люди могут довести до сведения Перепелицына…
– Дивлюсь, не хочу верить, – возразил Ермак с приметным негодованием, – чтоб Строганов мог страшиться Иоанна? Нет! я слишком знаю Максима Яковлевича, чтоб Ситскому бояться в Орле-городке, нет! ты его не выдашь.
– Благодарствую за доброе мнение. Мне любо слышать его от Ермака, но вспомни, что в делах общественных пуще всего осторожность, дабы малое обстоятельство не было преградой великим предприятиям. Ты сам знаешь подозрительный нрав Иоанна.
– Неужели Ситский не искупил своей опалы славными делами? Забудем о поражении Мурзы Бегулия, где он был моей правой рукой. Скажем царским воеводам, что Ситский указал казакам путь в пустыни камские, что без него, может быть, Ермак повел бы свою храбрую дружину в другие страны, для другой цели; наконец, скажем, что Ситский есть украшение донской вольницы!
– Такие мысли достойны предводителя храброй дружины, но подумаем, Ермак Тимофеевич, нет ли еще способа соединить возвышенность чувств и достойную гордость человека с законами… Не можно ли, не раздражая Иоанна, спасти Ситского?
– В таком случае тебе придется таить от царя и обо мне, и о Кольце, и о всех других атаманах, которых головы оценены им, или выдать нас живьем в руки Перепелицына, – присовокупил Ермак с ядовитой насмешкой.
При всей кротости и снисходительности Максима Яковлевича заметно было, что укоризна Ермака крепко его тронула. Но, как муж благоразумный, дальновидный, он спешил только укротить пылкость Ермака, которая могла иметь неприятные последствия; а потому, взяв дружелюбно Ермака за руку, сказал со свойственной ему тихостью:
– Я уверен, дорогой атаман, что ты обидел Строганова, не желая того; обидел в жару приязни к своему любимцу. А в доказательство, что и я умею уважать и любить, пошлю тотчас же просить его сегодня со всеми атаманами, начиная с храброго вождя их, кушать хлеба-соли у моей именинницы.
Таковая снисходительность достаточна была, чтобы пробудить всякого другого, не только Ермака, старавшегося управлять своей неукротимостью. Он почувствовал во всей силе превосходство над собой Строганова как человека государственного, и кинулся к нему в объятия.
Денис прослезился, видя согласие двух великих мужей.
– Мне бы хотелось показать тебе список с донесения моего царю, – сказал Строганов, – об усмирении нами вогуличей, но оставим дела до другого дня.
Глава третья
Забавы Строгановых. – Хвастливый карло. – Влюбчивая дура. – Противоположность братьев Строгановых. – Пир у именинницы. – Заздравный кубок. – Тайна любви открыта.
Описывать трапезу именитого человека, сколь, впрочем, ни отличалась она огромными осетрами и мерными камскими стерлядями, которые едва укладывались на длинных серебряных лодках, разносимых вокруг стола дюжими прислужниками в парчовых рубахах, – значило бы повторять давно сказанное об изобилии и приуготовлении яств на царских и боярских обедах. Вслушаемся лучше в разговоры собеседников и в шутки карлов и шутов, которые тешили гостей и шутили, доколе сии последние сами не поразговорились за пятой круговой чарой.
Всех более забавлял головастик карло Горыныч, одетый в богатое боярское платье и высокую кунью шапку. Ему подчинены были все другие карлы и карлицы, дураки и дуры, и поистине нельзя было видеть без смеху чванство и спесь сего пигмея. Максима Яковлевича, Никиту Григорьевича, даже игумена Варлаама он называл полуименами. Всего же смешнее казалось в нем то, что он гордился тем, что рожден был вогулом, а не русским. К несчастью бедняка, в тот жалкий век русские не стыдились быть русскими, титло или имя иноземца не доставляло в России права на ум, ученость и любовь к отечеству! Горыныч посажен был в углублении, сделанном в изразцовой печи, где он казался более куклой, нежели человеком. Оттуда-то он насылал свои грозные повеления своим подчиненным, часто непокорным, мятежным. В особенности дура Феколка, безобразнейшее и грубейшее в мире творение, оказывалась ослушной своему повелителю и к досаде его лаяла собакой, когда приказывал он ей мяукать кошкой. Горыныч топал ногами, грозился разразить дуру, которая и теперь, вместо того чтобы подать ему кружку с медом, поднесла ее рыцарю Реку, сказав ему:
– Ну-ка, нехристь, побренчи на своей балалайке, а мы с Аниской попляшем, да и Топот Кирюшка покувыркается…
– Уже после обеда, – отвечал фон Рек, сидевший между Ситским и Мещеряком.
– Врешь, обманешь, собака!
Анисья, неравнодушная к рыцарю, вступилась за своего любезного и вскричала:
– Как ты смеешь, дура, ругать честного господина, знаешь ли, что он с тобой сделает?
– А что, а что?
– То, что обернет тебя в дедушку Федота, как ономеднись сам обернулся в него и напугал боярышню…
Заметно было, что фон Рек изменился несколько в лице при этом слове и взглянул на Максима Яковлевича, как будто боясь, чтоб он не вслушался в сказанное карлицей. Но успокоился, увидя, что тот был занят новыми выходками Горыныча, снятого уже с печки. А скоро и спор карлицы с дурой, кончившийся дракой, обратился в общий смех. Горыныч рядил и судил о бывшем походе на вогуличей и остяков, приходивших грабить строгановские селения на Сылве и Чусовой. Он рассказывал о подвигах своих и наставлениях, данных им начальникам рати ее таким самохвальством, с такой дерзостью, что сам Ермак помирал со смеху. Однако из сей забавы породился разговор, могущий дать понятие о семейном несогласии Строгановых.
– Ну-ка, Горыныч, расскажи, как ты поймал мурзу Бегулия? – спросил Максим Яковлевич с улыбкой.
– Силен, проклятый, – отвечал карло с самодовольствием, – да не увернулся от меня. Думал, что наскочил на Микиткиных холопов, не тут-то было, и лежит теперь в клетке со скрученными руками.
– Правду сказать, – заметил Ермак, – мурза славно дрался.
– Как я велел пустить в поганых-то живым огнем, – продолжал Горыныч, – то они и спятились, а мы и учали их крошить. Ха, ха, ха! Пугнул я порядком и Микиткиных трусов, долго меня не забудут.
– Что он хочет сказать? – спросил Строганов с любопытством, обращаясь к атаманам.
– Без сомнения, то, – отвечал Ермак, – что воины Никиты Григорьевича, устрашась превосходства неприятеля, дрогнули, но атаман Гроза их удержал, постращав несколькими выстрелами из пищали им в тыл.
– Не верь ему, Максимушка, не верь, – воскликнул Горыныч, – я закричал на них, так они и оробели.
– Напрасно, – заметил Строганов, – этот случай может навлечь нам большие хлопоты. Брат Никита Григорьич обрадуется этому, чтобы впредь не высылать никакой помощи против общих неприятелей наших.
– Спроси у Грозы, – сказал с непритворным торжеством Мешеряк, – что и я ему не потакал палить в своих.
– Я точно не послушался его речей, – отвечал смело Гроза, – и не раскаиваюсь. Если б я не велел выстрелить в трусов, то они побежали бы при первом появления мурзы с горы, смяли бы нас, а тем дали бы неприятелю случай подавить нас своим многолюдством. Ты сам знаешь. Максим Яковлевич, что у Бегулия было более семи сотен, а нас только две сотни.
– В войне это дозволительно, – заметил рыцарь фон Рек.
Игумен Варлаам, смотревший долго с неудовольствием на немца, пользовавшегося доверенностью благочестивого Строганова, а тем более еще оскорбленный обязанностью сидеть за одним столом с иноверцем, перекрестился и сказал:
– Воля твоя, Максим Яковлевич, а я не благословляю поступка твоих казаков с воинами Никиты Григорьевича, хотя и принужденного. Стрелять в своих братьев воспрещено Святым Писанием, и, если Никита Григорьевич принесет жалобу царю Иоанну Васильевичу, то ты останешься в виноватых. Апостол Павел глаголет: «Дондеже время имамы, да делаем благо ко всем, паче же присным в вере», а святой апостол Петр научает: «Не воздающе зло за зло и же недосаждения за досаждение».
– Святой отец, – возразил Гроза, – вспомни слова того же апостола Петра: «Яко тако есть воля Божия, благотворящим обуздовати безумных человек невежество и трус».
Игумен, хотя раздражен был неожиданным ответом молодого казака, но расчел благоразумнее замолчать, а дальновидный хозяин, чтобы совершенно прекратить сей разговор, выпустил опять на сцену дур и дураков. Горыныч опять вступил на поприще и морил всех своим бесстыдством. По его словам, все хорошее сделал он, присоветовал он; но, увы! с такими правами, на право делового, государственного человека, он был у Строганова только шутом! Видно, с дерзостью и самохвальством и тогда нельзя было на православной Руси занимать других мест. Влюбчивая Аниска не скрывала предпочтения своего к красивому рыцарю и, во изъявление любви своей, беспрестанно подбегала к нему и хохотала прямо в лицо. Наконец, Кирюшка Топот, юродивый с рыжей склоченной бородой, привел медвежонка, одетого под пару с Горынычем. Их заставили плясать под песни дур, и эта потеха продолжалась бы долее, если б Максим Яковлевич не приказал перестать, прогневавшись за то, что Кирюшка, когда одобрял или кричал на медведя своего, называл его именем Никиты Григорьича. Надобно признаться, что Никита Григорьич служил разительной противоположностью с Максимом Яковлевичем. От того, несмотря на все снисхождение и кротость последнего, они не могли вместе ужиться, и Никита избрал Чусовую местом своего пребывания, содержа также большую дворню и даже ратных людей. «Ну-ка Микитушка, поворачивайся да не отворачивайся», – кричал юродивый во все горло, и смех вторился не только в светлице, но и в сенях, набитых челядинцами, которые из растворенных дверей с подобострастием смотрели на пирующих господ своих. «Эк, батька рявкнул, словно дедюхинский князек гаркнул». Подобные остроты, отпускаемые Кирюшкой, вывели хозяина из терпения: он приказал выгнать его с медведем и грозился велеть высечь, если не перестанет вперед так дурачиться. «Коли сечь, так сечь всех нас: и Дениску, и Ласку, и ключника Пафнутьича, – кричал юродивый, оставляя лениво светлицу. – Они все кличут Мишку Микиткой…»
– Напраслина, государь батюшка, – возразил подьячий Ласка тоненьким голоском из толпы челядинцев, – сущая напраслина! Не повернется холопий язык мой на такое содомство.
Неожиданная выходка сия заставила всех улыбнуться, кроме атамана Мещеряка, который обнаружил тем свою кротость с этим исчадием крамолы и зависти.
Между тем поставлен был перед хозяином золотой заздравный кубок и серебряная ендова с романеею, в коей плавал небольшой ковш из того же металла, осыпанный изумрудами. Вдруг растворилась боковая дверь, и показалась толпа женщин; они остановились у притолки, а к столу приблизилась одна именинница. Красота ее несказанно увеличивалась румянцем стыдливости, которым, как алой зарей, подернулось ее снежное лицо. С поникшими глазами Татьяна поклонилась в пояс отцу и с подобострастием, не смея взглянуть, ожидала его приказаний.
Говорят, один только Ласка оставался равнодушным при виде стольких прелестей. Ермак оставил свою угрюмость, возрастающую обыкновенно при встрече всякой молодой женщины, причем будто некие тайные воспоминания точили пуще его душу, и улыбнулся. Верный, пламенный Владимир, казалось, забыл предмет своей страсти, никогда его дотоле не оставлявшей, и устремил глаза свои на красавицу. Все с нетерпением ожидали развязки появления Татьяны и еще более удивились, когда Максим Яковлевич приказал ей подносить гостям заздравный кубок. По закону приличия она должна была принять от каждого с поздравлением поцелуй, держа обеими руками поднос с полным кубком. Все кончилось бы своим порядком, чинно и тихо, если бы прекрасная подносчица не уронила подноса и не разлили кубка с вином, когда в свою очередь приблизился к ней Владимир Гроза. Все ахнули, особливо возгласы ужаса и страха сильно послышались между старушками и женщинами, сопровождавшими Татьяну. Это дало ей время прийти в себя, так, что замешательство ее отнесли к естественному беспокойству по случаю неприятного происшествия. Только Мещеряк и Рек не вдались в обман: один – из зависти, сторожившей каждый шаг, каждое слово и взор Грозы; другой – из ревности, глаза которой не менее зорки и ошибочны. Рыцарь заметил, как Татьяна переменилась в лице, как жизнь вспыхнула в ее глазах, как затрепетала полная грудь ее, несмотря на непроницаемую душегрейку, когда подходил к ней Владимир. О нет! поднос выпал из рук красавицы не случайно, не по неосторожности: бедная Татьяна! тебя подстерегли, тебя отгадали любовь и зависть, и рыцарь понял теперь смысл первоначальной печальной песенки, понял, о ком втайне тужило нежное сердце затворницы!
Максим Яковлевич, быв выше предрассудков своего времени и нисколько не подозревая Татьяну в неравнодушности к Грозе, относил чистосердечно сие приключение к случайности и, чтобы разогнать беспокойство милой своей дочери, которая между тем удалилась к дверям, приказал позвать песельников и вместе с тем просил Река потешить ее своими песнями. Рыцарь с радостью согласился выполнить желание хозяина: когда принесли его цитру, он пропел томную балладу с таким чувством и приятностью, что разжалобил даже твердые сердца атаманов.
– Как же ты складно слагаешь песенки! – сказал Максим Яковлевич.
– Я только переложил слова с немецкого, – отвечал Рек.
– Правда, – заметил Гроза, – рыцарь поет хитрее нашей братьи, но что-то сладкие слова немецких песен не доходят так близко к сердцу русскому.
– Он и с русскими управляется не хуже, – промолвил Мещеряк с коварной улыбкой, – я плачу каждый раз, как он распевает по ночам, словно соловей, какую-то заунывную песенку.
Рыцарь без затруднения согласился выполнить желание Мещеряка, ласкаясь надеждой увидеть впечатление, какое произведет эта песня на прекрасную Татьяну. Но он не допел еще половины, как дура Феколка закричала во все горло:
– Цыц, проклятый нехристь! Не ты сложил эту песню, а наша боярышня; ты, знать, подслушал, как распевала она ее, бывало, в моленной по ночам, сидя у окошечка.
Максим Яковлевич невольно обратил взоры на Татьяну и, полагая прочесть на бледном лице ее и в потупленных глазах подтверждение слов Феколки, дал знать, чтобы она возвратилась со свитою в свой терем, а скоро распустил и всех гостей своих.
Может быть, сие приключение разрешило ему причину пролитого кубка с вином, а говорят, было даже причиной скорейшего отправления Ермака в поход.
Глава четвертая
Снаряжение казаков в поход. – Частные беседы. – Ошибка. – Честолюбивые виды Строганова. – Новое коварство Мещеряка.
Какая деятельность, какая жизнь кипела на берегах Камы! Этому подобное можно разве видеть на верфях нью-йоркских, где целые флоты спускаются почти ежедневно на быстрые струи Гудзоновой реки (Nord Pijep), где тысячи рук заняты строением морских палат и крепостей! Луговая низменность, начиная от Орла-городка до самого почти Дедюхина, покрыта была длинными ладьями с острыми носами, как у стерлядей, все почти одной меры – шести сажен в длину, с лавками посередине и небольшой палубой на корме. Низкие мачты заставляли полагать, что они утверждены на судах не для парусов, а для бичевника. Люди, как муравьи, кипели над ними. Одни стучали топорами; другие, привязывая канаты к верхушкам мачт, распевали веселые песни; третьи возили смолу, четвертые устанавливали семипядные пищали и легкие самопалы. Телеги скрипели под тяжестью мешков и кадок с мукой, крупой и маслом. Кольцо весом принимал зелье и осторожно укладывал его под палубы[45].
День был жаркий, несмотря на последние числа августа месяца, а потому прохлада, ощущаемая в тереме, где беседовали вдвоем Ермак Тимофеевич с Максимом Яковлевичем, имела особенную приятность. Вопреки обыкновению, Строганов выбрал на сей раз дочернюю светелку, из которой, как мы видели выше, два решетчатых окошка обращены были на реку, вероятно, дабы иметь в виду сию прекрасную картину. И поистине зрелище деятельности на берегах пустынной Камы представлялось отсюда еще прелестнее, поразительнее. Давно уже они беседовали между собой. Стало смеркаться: уже светлая тень белой пеленой подернула окрестные пустыни, уже прибрежные гиганты, за минуту тянувшиеся бесконечной полосой по зеленому лугу, бежали как будто вспять, становились пигмеями по мере того, как катился вверх молодой месяц по лазури безоблачного эфира, – а они все беседовали.
– Ты видишь, Ермак Тимофеевич, – говорил Максим Яковлевич, – что еще по первой грамоте, жалованной деду нашему в тысяча пятьсот пятьдесят восьмом году, по коей нам отданы во владение все земли, лежащие вниз по Каме от земли Пермской до реки Сылвы и берега Чусовой до ее вершины, мы имеем право принимать к себе всяких людей вольных. А последней грамотой, полученной от царя Иоанна Васильевича на имя отца моего в тысяча пятьсот семьдесят четвертом году, коей распространены наши владения до самого Каменного хребта, мы можем укрепляться на берегах Тобола и вести войну с Кучумом.
– Тут нет никакого сомнения, – отвечал Ермак, – и я советую тебе отложить всякий страх. Иоанн сам разрешил тебе идти с огнем и мечом за Каменный Пояс.
– Я этого не боюсь, но желал лишь знать твое мнение: не дать ли знать чердынскому наместнику о нашем предприятии? Нечего таить перед тобой: воевода Перепелицын человек недобрый и, пожалуй, перетолкует в худую сторону наше доброе дело.
– Нет, Максим Яковлевич, лучше помолчать до времени, хуже будет, как не велят идти.
– Мы не послушаем.
– Тогда подадим сами законный предлог представить нас ослушниками. Напротив, будет поздно крамольничать, когда мы делами честными привяжем злые языки завистников. При Божьей помощи и с твоим пособием я ожидаю совершенного успеха.
Долго еще проговорили между собой главные виновники завоевания Сибири накануне рокового дня похода. «Но что это за люди, пробирающиеся по берегу реки в близлежащую дубраву? Шаги их нетверды, даже тусклая тень, стелющаяся от них по мягкой мураве, кажется дрожащей, трепещущей. Уже они близки, чтобы скрыться в темноте рощи, как яркий луч месяца, вырвавшегося из черной тучи, обличил в двоих из них атамана Мещеряка и подьячего Ласку. Но зачем они идут в лес и в такое время? Кажется, эти оба молодца равнодушны к прелестям светлой осенней ночи, сердца их свободны от нежных ощущений, кои люди чувствительные любят переливать в душу другого при свете томной луны? Они люди толковые, но лукавые, и неужели, как хищные враны, бегут в мрачность леса совещаться о каком-нибудь умысле? Жаль, что некому их подслушать», – так или почти так рассуждал старик Денис, дожидаясь на галерее выхода из светлицы Ермака Тимофеевича и от скуки и нетерпения глазея в ту сторону.
Вот, наконец, вышел от Строганова и Ермак Тимофеевич. Денис, не теряя ни минуты, почти вбежал к своему господину и, оглядев с осторожностью вокруг себя, начал говорить вполголоса:
– Я твою волю выполнил, государь Максим Яковлевич, но боюсь сказать правду.
– Говори смело.
– Да то-то, что и у меня самого язык не поворачивается. А молодец, чем более узнаю его, тем больше мне по душе.
– Мне самому он всегда нравился. Признаюсь, что и в первый раз, когда он был здесь под настоящим своим именем, я прочил его в женихи Танюше, оттого и давал им способы видаться.
– Да и накликал себе беду на шею.
– Какую беду, старинушка?
– А вот какую: знай, что Гроза, или князь Ситский, – как прикажешь назвать – гадает не о Татьяне Максимовне, а о другой, какой-то казачке. Он спит и видит одну ее и поклялся на другой не жениться.

