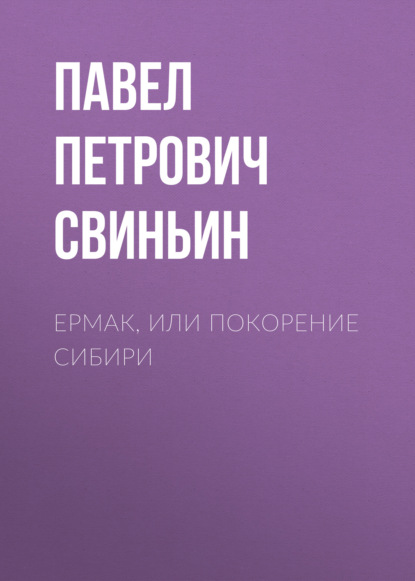 Полная версия
Полная версияЕрмак, или Покорение Сибири
– Поверь, что эту блажь он выкинет из головы, – заметил Строганов со значительной улыбкой, – если узнает о счастье, о котором он не смеет и думать. Где ему найти невесту богаче и краше нашей Танюши?
– Добавь, батюшка, – и добрее и милостивее ее, – сказал старик со слезами. – Да, видно, нечистый стал ныне сильнее прежнего; по его наваждению молодежь ныне вздумала любить. Прежде не смели этого подумать, не только выговорить. Уж не Божье ли это наказание на детей за грехи отцов их? Кабы послушал ты, Максим Яковлевич, какую дичь порет Владимир, когда заговорит про свою любезную! Жаль, что боярышня к нему, проклятому, привязалась.
– Но она благоразумна и, без сомнения, опомнится, когда узнает, что Владимир любит другую. Я думаю, что это послужит лучше всего к ее послушанию.
– Дай-ка бог, чтоб по-твоему сделалось, а я слыхал, что недуг этот скорее иссушит, чем отстанет от девушки.
– Пустое, он переходчив, – заметил Строганов с некоторой рассеянностью и, подумав несколько, продолжал: – Скажу тебе, Васильич, как старинному другу нашего дома, что с тех пор, как говорили мы с тобой, я предпринял другое для счастья Танюши. Новый предмет, мною избранный, достойнее…
– Да, батюшка, Максим Яковлевич, уж нечего сказать, Татьяна Максимовна по разуму и красоте достойна быть царицею.
– А почему бы и не быть царицею? – сказал Строганов с чувством гордости, до сего в нем не замечаемой.
Денис выпучил на него глаза в недоумении.
– Да, Васильич, если Богу будет угодно, я избрал в женихи Танюше человека необыкновенного, великого, знаменитого не родом и племенем, а духом и разумом.
– Христос с тобой, неужто изволишь говорить о немецком рыцаре? Правда, он хитер на выдумки и красив на лицо, говорят даже, будто он чуть не князь в Лифляндах, да воля твоя, государь, он не стоит волоска нашей боярышни.
– Ты смешон мне, Васильич, с твоим рыцарем. Неужели ты не знаешь никого его превосходнее?
– Ума не приложу, батюшка… Уж не царь ли, Иоанн Васильевич, жалует тебя своей царской милостью, берет за себя Татьяну Максимовну?
– Он уж и так женат не то на пятой, не то на шестой.
– Или шлет к нам царевича или удельного…
– Сохрани бог! Пожалуй, пришлет Басманова или Скуратова в женихи. Довольно того, что и в Москве знатнейших и богатейших боярских девиц перевыдал за своих опричных…
Раздавшийся ружейный выстрел в столь позднее время прервал разговор. Строганов и Денис встревожились, но каждый по разным догадкам: Строганов, заметив в сумерках Грозу, удалившегося далеко от крепости, вообразил, что на него сделал нападение какой-нибудь дикий зверь и он отпяливается; Орлу, напротив, прежде всего пришли на ум Мещеряк и Ласка, коих он видел за несколько часов до сего пробиравшимися подозрительно в лес.
Выстрел произвел всеобщую тревогу: народ бежал на место, откуда он раздался, но ничего и никого не мог найти там. Скрывшийся месяц увеличивал темноту ночи, так что не было возможности производить поиск. Собирались вернуться в город, как из лесу показалась черная тень. Она шла прямо на шум, и вскорости узнали в ней Грозу, который разрешил недоумение, объявив, что стрелял по трем человекам, не хотевшим откликнуться, когда проходил он мимо крайних лодок, и побежавшим от него в лес.
Между тем принесли пуки зажженной лучины, и Владимир повел народ за буерак, скрывавший лодки. Здесь, к большому для всех ужасу, нашли костер, составленный из разных горючих веществ, который стоило только зажечь, чтобы охватило огнем весь флот. Ласка и Мещеряк искреннее всех ужасались сему злодеянию и открыли даже веревку, натертую селитрой, которая проведена была к самому пороху. Сие последнее казалось тем удивительнее, что часовой, который приставлен был в ночное время к сим ладьям, не видел никого, кто бы приблизился к ним хоть издали.
Максим Яковлевич крайне обеспокоился сим приключением, а Орла вдобавок к тому мучило еще любопытство – узнать о новом женихе, о котором не успел выведать за проклятым выстрелом.
Глава пятая
Казаки отправляются в поход. – Устройство рати. – Правда в душе. – Молебствие. – Знамена. – Счастливая перемена для рыцаря.
Первое сентября 1581 года замечено было в Орловских летописях (если таковые существовали) днем величайшего события. И подлинно, оно представило зрелище, какому подобного вряд ли когда будет на берегах Камы, несмотря на то, что и в сем краю удаленной России беспрерывно увеличивается народонаселение, строятся города и села, умножаются заводы и золотые прииски, несмотря на то, что не только Строганов, но и сам Ермак не предполагали успехов, коими увенчались предприимчивость и любовь к отечеству первого, храбрость, разум и великий дух второго.
При первых лучах красного солнышка, весело выкатившегося из-за черного бора, Ермак вывел свою дружину из крепости и выстроил по сотням, на которые она была разделена. Сотни делились на половины, а те на десятки, и как те, так и другие имели своих начальников: атаманов, есаулов, сотников и десятников. И хотя храбрая дружина, готовящаяся завоевать беспредельную Сибирь, покорить целые народы, в ней обитавшие, едва состояла из девятисот воинов, но бодрый вид, крепость мышц, широкие плечи и вместе легкий стан каждого представляли купу атлетов бесстрашных, непобедимых, готовых лететь на всякую опасность, перенести всякую крайность, превозмочь всякую преграду. Собственно казаки составляли восемь сотен под начальством Кольца, Пана, Грозы, Мещеряка, Михайлова, есаулов Брязги и Самуся. Девятая, состоявшая из немцев, поляков, литовцев и подобного сброда ногайских пленников, была поручена знакомому нам рыцарю фон Реку. Все они одеты были в новые кафтаны серого сукна и снабжены добрыми фузеями и острыми мечами. Веселость и хохот, раздававшиеся в рядах дружины, доказывали не только всеобщее согласие, но пламенное желание как можно скорее пуститься в сей трудный поход. Достаточно подслушать старого приятеля нашего Грицко Коржа, чтобы убедиться в том. Шутками его, подобно прибауткам нынешних солдат-балагуров, которые всего вернее изображают дух, понятия и расположение войска, Ермак весьма искусно умел пользоваться, употребляя их нередко для управления и воспламенения своей дружины. Он и теперь сквозь пальцы смотрел на беспорядок казаков и не мешал им подбегать из других сотен в сотни Грозы, где находился забавник. Особливо кинулись они к нему при виде Горыныча, полагая, что тут будет большая потеха, и не обманулись. Корж будто ненароком загородил ему дорогу. Спесивый карло толкнул его изо всей куриной мочи, и Грицко, которого, судя по исполинскому росту и крепости, не сдвинула бы чувашская скала, если б вздумала тронуться со своего места, повалился как сноп к ногам Горыныча.
– Знай наших! – воскликнул карло с самодовольствием.
– Раздайтесь, братцы, шире, давайте дорогу просторнее строгановскому богатырю! – кричал Грицко с земли. – Пожалуй, он передавит всех нас, как червяков, выползших на белый свет из навозной кучи.
Казаки раздались, но поставили на пути Горыныча крест-накрест пики свои, так что он должен был перелезать или перепрыгивать через каждую из них.
– Буяны, головорезы, – пищал разгневанный карло. – Да, слава богу, недолго вам разбойничать: наши сибиряки уймут хоть не вас.
– Ну, полно пугать-то, змей Горыныч, – отвечал Грицко без малейшей улыбки.
– Скоро узнаете нашу братью вогулов.
– Уф! страшно! Мороз по коже подирает от одних слов твоих! Да не померяться ли нам наперед? – сказал Грицко, обращаясь к казакам. – Будем ведать по нему, сколько нужно нашей братьи на одного вогула. – Он кивнул головой, и Горыныч уже летал по воздуху: шесть молодых казаков бросали его вверх на широком кафтане, а прочие помирали со смеху.
Владимир равнодушно смотрел на сие позорище и даже улыбался, доколе раздавались угрозы и брань воздушного путешественника, но когда сей последний стал жалобно упрашивать своих мучителей, чтобы его освободили, то он приказал им перестать. Горыныч, почувствовав себя на ногах и под покровительством сильного, принял прежний спесивый вид и с презрением сказал:
– Ну что, собаки, взяли? Десятеро насилу с одним сладили. А еще затеяли воевать Сибирь. Да станет ли у вас и смысла на что доброе? Строганов не чета вам, а живет вогульским умом-разумом.
– Насмотрелись, насмотрелись, Горынушка! И подлинно, без земляка твоего, Ласки, ничто у вас не делается, и мы бы далеко были за Каменным Поясом, – заметил Грицко с язвительной усмешкой.
– А кто ж вас поведет и туда, как не он? – пропищал карло и пустился бежать так, что Владимир, вслушавшись в последние слова, не успел сделать ему никакого вопроса. В то же время показались из ворот крепости Строганов с игуменом в сопровождении многочисленного причта.
На бугре, смотревшемся почти отвесно в быструю реку, приуготовлено было место для отправления молебствия с водоосвящением. Хотя в те времена, даже в столице, церковные обряды не представляли того великолепия, с коим ныне славится имя Божие во всех концах православной России: утварь редко бывала из серебра, а большей частью деревянная или из олова. Штофы или парчи не всегда украшали рамена служителей алтаря. Холстина, а много бумажная выбойка заменяли их, а потому богатая риза с жемчужными оплечьями, которую воздел на себя игумен Варлаам, глазетовые стихари на двух других священниках и на дьяконе, а шелковые – на церковниках; наконец, белая властительская шапка, которую вместе с набедренниками и палицею испросил от патриарха Аника Строганов для настоятеля Пыскорского монастыря (основанного им в 1560 году в возблагодарение за первые жалованные ему грамоты царем Иоанном Васильевичем), ослепили всех изумлением. Вокруг деревянного стола, покрытого также матерчатой пеленой, на коей лежали позлащенное Евангелие, таковой же крест и возвышалась огромная купель с водой, развевалось шесть новых знамен на высоких древках. На ближайшем из них написан был по зеленому штофу лик Иисуса, а на другом – в голубом поле святой Николай Чудотворец. Сверх того все четыре стороны первого покрыты были следующими изречениями: «Аще на брани узриши кони и всадники множайшые тебе, да не убошися их, яко Господь Бог с тобою. И поженут от вас пять сто, и сто вас поженет тьмы, а падут врази ваша пред вами мечом». А на другом по голубому полю начертаны были известные слова из акафиста: «Радуйся, Николае, от мятежи и брани соблюдайя; радуйся от уз и пленения освобождайя, радуйся, яко тобою лютые смерти избегаем, радуйся телес здравие и душ спасение».
В числе прочих знамен замечательнее всех по величине своей и красоте письма было черное, на коем изображался ад более чем в тысячи фигурах. Говорят, что кроме грехов, поименованных в заповедях Господних, художник замысловато представил многие другие, согласно понятиям того века[46]; как-то: неблагодарность, себялюбие (эгоизм), презрение к старшим и властям. И прибавляют: будто греховодники сии, вытеснившие ныне числом своим целый ад на картине, умещались тогда в небольшом уголке преисподней. Надпись состояла из двух изречений Апокалипсиса: «Побеждающему дам сести со мною на престоле моем и побежани не имать вредитися от смерти вторые».
По окончании молебствия с коленопреклонением Ермак сам взял чашу и понес ее к ладьям. Игумен, окропив их святой водой, возвратился к знаменам и, совершив с ними подобный обряд, вручил их начальникам дружин по старшинству с приличными поучениями. Наконец, он осенил всех крестным знамением. Тогда Максим Яковлевич, подойдя к Ермаку Тимофеевичу и обняв его с непритворной искренностью, сказал с чувством:
– В лице твоем, Ермак Тимофеевич, я обнимаю всю твою храбрую дружину и благодарствую за гощение. Не ведаю, показалась ли вам моя хлеб-соль, по крайней мере, я предлагал ее с усердием. Гладкие поля, превращенные мощной рукой вашей из непроходимых лесов, будут свидетельствовать грядущим столетиям о вашем трудолюбии, будут служить примером для воинов в мирное время.
Тут он дал знать старому Орлу, и тот открыл из-под покрывала икону в жемчужном убрусе. Строганов, перекрестясь, приложился к ней и, передавая ее Ермаку, продолжал:
– Напутствую вас, дорогие гости, святым ликом вашего заступника. Под сенью его, с обетом доблести и целомудрия, идите очистить землю Сибирскую и выгнать безбожного султана Кучума.
Ермак с благоговением принял святую икону из рук Строганова, низко ему поклонился и ответствовал:
– Не тебе, Максим Яковлевич, а нам подобает благодарствовать за твои к нам щедроты. Ты укрыл наши головы, снарядил нас одеждой и обувью, наделил в дальний путь оружием и хлебом. Нет! ты сделал более: ты показал разбойникам путь к спасению душ их и голов, ты сделал из них граждан отечества, верных слуг царя православного! Идем с верой на великое дело для славы и пользы матушки России.
– Идем, идем! – раздалось как громовым ударом в воздухе и, к величайшей неожиданности, повторилось эхом от залпа из всех пушек и пищалей, находившихся в ладьях.
Между тем накрыли длинные столы по гладкому берегу, выкатили из подвалов несколько бочек крепкого меда, и храбрая дружина беспечно предалась веселью трапезы.
Все ликовали, кроме Ермака, Грозы и рыцаря Река. Первый был занят окончательными распоряжениями для изготовления в поход, беседуя часто с Максимом Яковлевичем и толкуя нередко с Лаской, который был дан им в проводники за Каменный Пояс как самый знающий все пути, к нему ведущие, ибо Ласка был из числа тех смельчаков, коих посылали Строгановы в Сибирь для мены товаров, и притом был родом вогул. Гроза не мог разделять общего веселья потому, что с удалением в неизвестный край, для неизвестного предприятия терял последнюю надежду услышать когда-либо о своей Велике, для отыскания которой давно уже отправился его неизменный друг Уркунду. Ему также страх не нравилось назначение Ласки в проводники: какое-то черное предчувствие грызло его ретивое.
Фон Рек под влиянием Мещеряка, не предвидевший ничего доброго в сем походе, неохотно расставался с предметом своей пламенной, хотя безнадежной, любви. Зоркий глаз его, несмотря на чащину решетки, давно заметил женскую фигуру, стоявшую в окошке терема, обращенного к стороне Камы. «Может быть, – думал иногда он, – я тот счастливец, которого провожают», – но, вспомнив происшествие с бокалом, терял надежду и более еще хотел бы восторжествовать над счастливым соперником. Можно вообразить после сего его восхищение, когда Ермак Тимофеевич, подойдя к нему, обратился с сей речью:
– Не нужно толковать тебе, рыцарь, что Максим Яковлевич, отпуская с нами всю свою силу, имеет надобность найти не только личную храбрость, но ум и прозорливость в начальнике небольшой дружины, которая остается с ним для защиты его и всех его заведений от внезапного набега неприятелей. Мы все признаем в тебе сии необходимые качества, а потому по воле его присудили оставить тебя здесь для охранения его. Надеемся, что ты не откажешься от сего важного и полезного назначения.
Сколь ни согласно было с собственным желанием рыцаря таковое предложение, но лукавый немец согласился не прежде на оное, как высказав отчаяние, что не будет разделять с храбрыми завоевателями Сибири знаменитых трудов и опасностей. Итак, желание его исполнилось, он не будет иметь перед глазами счастливого соперника, он может заставить забыть его, может найти случай понравиться… Сборная дружина его была отдана тотчас же есаулу Брязге, которого атаман отличал перед всеми другими.
Скоро при звуке труб воинских и радостного «ура!» флотилия отвалила от берега и стройно покатилась по быстрым струям широкой Камы.
Глава шестая
Трудное плавание по реке Силве. – Отдохновение. – Прибытие шамана. – Печальное известие о Велике. – Бегство подьячего Ласки. – Возвращение казаков в Чусовую. – Бедствия на сей реке. – Трудности при достижении Серебрянки. – Изобретение Ермака перебираться через мели. – Заливье. – Кукуй.
Чусовая, хотя и при устье не теряет быстроты своей, но глубина воды позволяет здесь идти на гребле, а от того плавание наших аргонавтов было довольно успешно до самой Силвы. В сей последней реке мели останавливали часто их усилия. Несмотря на то, в десять дней они поднялись так далеко вверх, что река сделалась почти неспособной к судоходству и должно было полагать близко ее вершину. К удивлению и досаде всех, проводник уговаривал идти далее.
В один день, претерпев большие бедствия от мелководья и ненастья, они остановились ночевать у подошвы тенистой рощи, как будто насаженной по зеленому лугу. За ней, шагах в ста, возвышался крутой берег, но он не преграждал совершенно зрения вдаль. Через две широкие расщелины можно было видеть восхитительную долину, расстилающуюся за ним на необозримое пространство. Расщелины сии, или глубокие овраги, образовали между собой мыс вроде замка отдельного, неприступного. На нем разложен был яркий костер, огненные искры высоко поднимались из него в поднебесье, подобно раскаленным камням, летающим из жерла огнедышащей горы, и при ночной темноте казались метеорами, распространявшими около себя кровавое зарево на дальнее расстояние. Окруженный атаманами Ермак сидел спиной к огню, едва слушал рассуждения Ласки о дальнейшем пути и скорой возможности перейти в черные реки, то есть в те, которые обращены на восток, отчего плавание, быв по течению вод, сделается несравненно легче. Но если б Ермак обернулся к свету, то легко бы можно было заметить на нахмуренном челе его следы неудовольствия и досады, которые увеличивались при каждом слове Ласки. Но вот атаман встает со своего места, вглядывается вдаль и, подозвав к себе Грозу, шепчет ему что-то на ухо. Сей последний удаляется, а Мещеряк с Лаской обмениваются взорами. Ермак и после сего не спускает глаз с черной точки, замеченной им на реке. Точка эта придвигалась более и более, увеличивалась, и наконец зоркий глаз атамана ясно отличил в ней челнок с человеком, борющимся против стремления реки. Скоро усмотрел его и сторожевой казак, стоявший у пристани, и, окликнув три раза без ответа, прикладывался уже выпалить, как подоспевший Гроза удержал его от того. Вскоре до слуха Ермака, не менее чуткого, долетел какой-то несвязный гул; вскоре замелькали по всему стану какие-то тени, и сами костры, разложенные по берегу в разных видах и направлениях, как будто зашевелились. Наконец из литовской дружины прибегает посланец с вестью, что схватили переметчика, но казак, присланный вслед за ним от Грозы, принес известие, что он ведет шамана Уркунду. Ермак приметно обрадовался сей неожиданности и немало удивился, когда, обернувшись к костру, чтобы разделить радость со своими собеседниками, никого не нашел там более. Кольцо, как узнали впоследствии, кинулся при первой вести навстречу нежданному гостю, а Мещеряк с Лаской, как говорит предание, пошли в противную сторону.
Уркунду изъявил нелицемерные знаки радости при свидании со старыми друзьями своими, несмотря на то, что Ермак прочел в лице его какую-то особенную угрюмость. После нескольких вопросов он готовился отпустить его на покой, желая и сам по случаю позднего вечера отдохнуть для завтрашних новых трудов, но шаман, схватя его за руку, сказал со свойственной ему грубостью:
– Я полагал тебя разумнее…
– Спасибо, – отвечал Ермак, – за что такая милость?
– За то, что Ермака обманули как филина.
– Кто? Чем? Говори скорее.
– Пора спать, а завтра, когда первые лучи дневного светила просветят твой разум, я скажу тебе и докажу. Ты согласишься.
Напрасно Ермак упрашивал и требовал, чтобы Уркунду не медлил более своим открытием: шаман объявил, что этого он ни за что не сделает сегодня, что это было бы противно воле его богов… Атаман, зная его дикий нрав, вынужденным нашелся согласиться на столь странное, непонятное упорство, притом и до восхождения солнца оставалось только несколько часов.
Поступил ли Уркунду по закону своей шаманской веры, которой действительно запрещалось предпринимать всякое важное дело по захождении солнца, – это увидим впоследствии, а теперь заметим только то, что он не был столь неумолим в удовлетворении любопытства Грозы, хотя и сей последний не мог вырвать ни полсловечка о судьбе своей Велики, доколе шаман не уселся на оленью кожу и не уткнул своей рожи в самый огонь.
– Не мучь меня долее, друг Уркунду, – сказал наконец Владимир, снедаемый любопытством и страхом, – скажи, ради бога, где Велика, здорова ли она, любит ли меня?
– Многого хочешь вдруг, приятель, – отвечал хладнокровно шаман, – будь доволен, когда узнаешь, что я нашел Велику еле живу.
– А теперь? – перебил его Владимир.
– Теперь? Встала на ноги, но остались одни кости да кожа. Ты бы не узнал и не взлюбил ее…
– Нет, Уркунду, – воскликнул Гроза, – я полюбил ее еще более, если только можно любить более…
Чувство, с каким произнес Владимир сии последние слова, проникло в душу дикого шамана, тронуло от природы его доброе сердце, и он без дальнейших вопросов удовлетворил вполне его нетерпение, рассказав, как нашел ее в киргизском ауле при смерти и какими хитростями заставил Нургали уступить свою невольницу. Жадный бухарец, купивший Велику для гарема сибирского царя Кучума, побоялся, что со смертью ее лишится не только воображаемых барышей, но и собственных своих денег, а потому Уркунду, взявшись пользовать ее, усугублял ежедневно опасения корыстолюбивого торгаша насчет продолжительной и неизлечимой ее болезни, так что Гали радовался в душе мысли, что обманул шамана, когда уговорил его купить Велику за половинную цену, уверяя, что ему более того дадут за нее на Дону, если он отвезет ее к родственникам.
Целебные травы и надежда возвратиться на родину скоро воскресили умиравшую девушку и дали ей сверхъестественные силы к перенесению трудного и продолжительного странствования.
– Мы выбрались уже было в лес и считали себя в безопасности, – продолжал Уркунду, – ан не тут-то было: наскакали на нас разбойники. Их было четверо, и между ними Нургали и дервиш. Что мне было делать с ними?
– Как! Ты не защищался? – спросил сердито Гроза.
– Вестимо, – отвечал хладнокровно шаман.
– Трус! Ты ответишь мне своей головой! – вскричал в неистовстве Гроза.
– Полно беситься-то, – перебил его с тихостью Уркунду. – Посмотрел бы я, как бы и ты с твоей храбростью отстоял любезную свою от четырех злодеев. Дервиш уговорил, вишь, Нургали отнять у меня Велику, уверив, что я его обманул и повез сам ее к Кучуму.
– Где же теперь Велика? – спросил с нетерпением Гроза.
– Чай, в гареме у царя сибирского.
– И ты говоришь равнодушно?
– А как же? И тебе советую не плакать, а молиться Богу. При его помощи мы отымем у Кучума Велику и со всеми его женами.
– Слабое утешение, – сказал со вздохом Владимир. – Зачем же ты не преследовал разбойников?
– Затем, что хочется еще послужить тебе. Дервишу больно хотелось уходить меня, да спасибо киргизцы ему не потакнули, однако запретили мне показываться в их аулах, если хочу еще пожить на белом свете. А они, бачка, слово свое держат поглаже вас, казаков…
Чтобы умерить несколько грусть Грозы, шаман во всю ночь рассказывал ему подробности, касающиеся до его любезной, и делал планы для ее освобождения. Со всем тем ночь сия показалась бесконечной для отчаянного любовника.
Не менее длинна и утомительна была она и для Ермака Тимофеевича, не смыкавшего глаз с глазом. С восторгом он встретил первые лучи восходящего солнца, а с ними вместе предстал перед ним Уркунду, верный своему обещанию. Никто не слыхал их разговора, только можно полагать, что шаман доказал ясно предводителю храброй дружины, что он заведен в Силву или обманом, или глупостью проводника, ибо тотчас же отдан был приказ готовиться к обратному походу. Ласку нигде не могли найти. Мещеряк первый принес известие, что он скрылся, лишь только услышал о прибытии шамана; и как он подозревал его в сем умысле, то нарочно спрятал его кису, которую и отдал Ермаку. Неприятели, или, лучше сказать, все те, которые знали настоящую цену Мещеряку, удивлялись его изворотливости и старались отгадать причину сей измены; но Ермак принял это знаком его усердия к общей пользе. В особенности он утвердился в сей мысли, когда в суме нашли письмо Ласки к Перепелицыну, где предатель с наглостью возмущал воеводу против казаков и Максима Яковлевича, и клеветал на опального князя Ситского, коего они укрывают от правосудия царского. На других лоскутках от разодранного письма разобрали, что он извещал кого-то о выводе вскорости всей рати из Каргедана и других городков…
Побег Ласки не оставил никакого сомнения в справедливости сказания шамана, и казаки с радостью пустились в обратный путь. Быстрое течение Силвы облегчило сплав их до Чусовой, но здесь их встретили всякого рода затруднения и бедствия. Уже более недели денно и нощно лил проливной дождик, резкий ветер вырывал весла из сильных рук гребцов, с упорством оспаривавших стремление реки, которая, как будто для вящего утомления дерзновенных, осмелившихся не уважать ее быстроту, с ревом катила по хребту своему камни им навстречу. «Стой!» – раздалось на первой лодке и громко откликнулось в утесах берегов, которые во многих местах столь низко нависли над водой, что представляли ворота, едва оставлявшие место для прохода под собой мелким ладьям. Можно представить, сколь трудны и опасны были таковые проходы, ибо волны, вырыв себе свободный ход под берегом, устремлялись туда всем своим напором, оставляя всю ширину реки почти лишенной воды. Только изредка перепрыгивали там струи, укрывшиеся от общего порыва, по изрытому и безобразному граниту, образуя пенящиеся каскады или крутящиеся водовороты.

