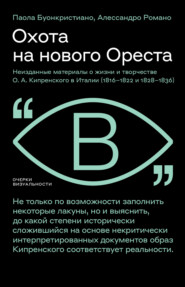
Полная версия:
Охота на нового Ореста. Неизданные материалы о жизни и творчестве О. А. Кипренского в Италии (1816–1822 и 1828–1836)
Это был высокий и весьма красивый мужчина чисто-Греческого типа, но уже с легкой проседью. Родина его была остров Санта-Мавро118, а фамилия Валламонте, чисто-Итальянская, как почти все фамилии уроженцев Ионических островов, находившихся долго под Венецианской республикой <…>. Так как церковная служба на непонятном для нас Греческом языке была немалым неудобством, то добрейший наш падре Джиовакино принялся трудиться до поту лица (самоучкой, вероятно) над Славянской литургею, хотя не понимал ни слова из нее. <…> Отец Джиоваки[н]о, как и все Греческие священники, проживающие в Италии, сохранял одежду священного сана, бороду и камилавку (черную) с выгибами119.
Излишне уточнять, насколько хорошо это описание соответствует портрету так называемого армянского священника.
Если Валамонте действительно является тем человеком, который запечатлен на копенгагенском портрете, естественно задаться вопросом о том, когда и где Кипренский мог написать его портрет. Что касается «когда»: принимая во внимание тот факт, что священник родился около 1776 года120, предположение, что его портрет должен был быть создан в первый период пребывания Кипренского в Италии, является вполне логичным: человеку на портрете явно около сорока лет – если бы это было начало 1830‐х, ему должно было бы быть за пятьдесят. Относительно «где»: безусловно, из ответа на этот вопрос следует исключить Флоренцию, поскольку в мемуарах Бутурлина нет ни одного упоминания о портрете Валамонте. Возможным ответом был бы Ливорно – город, из которого часто отплывали корабли, доставлявшие в Россию произведения русских художников, временно проживавших в Италии. Однако наиболее правдоподобный вариант – это, конечно, Рим: уже начиная с XVIII века русские императоры взяли под свое покровительство ливорнскую церковь Святейшей Троицы, получавшую благотворительные взносы, дары и финансирование от русского двора. Взамен, как мы это уже видели, православные священники из Ливорно были к услугам русских, живущих в Италии: например, в мае 1818 года Валамонте специально приезжал в Рим, чтобы крестить Льва Григорьевича Гагарина, третьего сына князя Григория Ивановича121, с которым Кипренский был очень близок – приветы и похвалы князю Григорию Ивановичу очень часты в письмах Кипренского к С. И. Гальбергу после возвращения художника в Россию (I: 150, 156, 166, 169).
Другой портрет Валамонте, обнаруженный в результате долгих поисков – к сожалению, имя и время жизни создавшего его художника неизвестны, – изображает священника уже в пожилые годы; но он также облачен в рясу122. И хотя качество репродукции оставляет желать лучшего, а поседевшая и разросшаяся борода еще больше скрывает черты лица, это все же не может поколебать нашей почти уверенности в том, что оригинал этого портрета очень похож на модель Кипренского своим орлиным носом и профилем (см. ил. 7 и 8).
Наше предположение имеет гипотетический характер, но поскольку мы не располагаем сравнительным материалом, позволяющим точно атрибутировать личность человека, запечатленного на этом портрете, нельзя исключить и другие возможные варианты его идентификации. Кроме того, в воздухе повисает еще один необходимый вопрос: если наше предположение справедливо, то где именно все эти годы хранилась картина – на наш взгляд, одна из лучших работ Кипренского – после его отъезда из Рима в 1822 году?
3. Римские натурщики
Средой, в которую Кипренский был вхож в Риме по понятным причинам, были натурщики. На эскизе, который собственноручно подписан художником «1821 июнь 18. М.ме Скачи и Марьюча», женщина, изображенная рядом с Мариуччей, весьма вероятно имеет отношение к натурщику Скачи, упомянутому Кипренским в двух письмах 1824 и 1825 годов (I: 151 и 160).
Один из документов Академии Святого Луки, относящийся к 1830‐м, озаглавлен: «Giubilazione del modello Giacomo De Rossi, e nomina di Saverio Di Girolamo detto Scaccetta»123 («Уход на пенсию натурщика Джакомо Де Росси и назначение Саверио Ди Джироламо, по прозванию Скаччетта»). Имя Саверио подсказывает более чем возможную идентификацию с личностью натурщика, высоко ценимого назарейцами в начале 1810‐х (в то время он был еще подростком)124. В разных документах эпохи его называют излюбленной моделью многих художников, в том числе Кановы:
Саверио Скачча, натурщик, которого особенно предпочитает Канова, – истинный денди среди натурщиков; он сам гордится своей красотой и свободой, с которой может принимать любое выражение и позу. Он хороший муж и отец, а в своей профессии любезен и усерден125.
Прозвище этого Саверио известно в самых разных транскрипциях: Скача, Скачча, Скаччетта, Скаччетто. Между 1814 и 1816 годами оно часто фигурирует в римском дневнике датского художника Кристофера Вильгельма Эккерсберга126, который был близко знаком со своим знаменитым соотечественником Бертелем Торвальдсеном. Рядом с именем Скачча упоминается и имя натурщицы Нены – то есть Маддалены, подруги Эккерсберга в то время127; после отъезда Эккерсберга из Рима, возможно, она стала подругой Кипренского, который в 1825‐м намекнул на свою прежнюю натурщицу и предмет его нежных чувств, назвав ее тем же уменьшительным именем Нена (I: 160).
В 1835 году Томмазо Минарди запечатлел Саверио на рисунке «Два знаменитых римских натурщика Джакомо и Скаччетта»128, а биографу художника из Фаэнцы мы обязаны этими строками:
И старые натурщики, помнящие о своих лучших временах, невольно способствовали тому, что в практику школы обнаженной натуры вошли некоторые форсированные положения рук и ног. Среди этих старых остатков былых статуй достойны памяти натурщик по прозванию Мачеллайо, обладавший атлетическими формами, и изящно сложенный Скачча <…>. Они были настоящими моделями, пунктуальными, почтительными, способными держать любую позу добрых два часа – и часто при конце сеанса можно было услышать от них такую реплику на римском диалекте романеско: «Если вам от меня еще что-то нужно, вперед! я могу корячиться сколько вам угодно»129.
Но еще более занятен и забавен рассказ анконского художника Франческо Подести:
В Академии чередовались двое натурщиков, один крепкого сложения, другой грациозный. Но поскольку последний слишком растолстел, то перестал нравиться молодым студентам, которые обратились к президенту, сменившемуся в начале нового школьного года, и предложили ему более красивого натурщика, <…> некоего Скаччетту. Но президент не стал слишком заботиться об этом деле. Посему прежде чем открылась школа, студенты сошлись на тайное сборище, на коем один из них, соединявший большое дарование с характером забавника, предложил молчаливую, но решительную демонстрацию: предоставить ненавистному натурщику принять позу, а потом по данному знаку сложить все листы бумаги в папки, потушить все светильники и удалиться. Предложение было встречено рукоплесканиями. <…> Но акция имела последствия, о которых бунтари не подумали. Натурщик, оказавшийся в почти полной устрашающей темноте, кувыркнулся со скамьи, старый сторож стал звать на помощь, а гвардеец у дверей поднял тревогу130.
Суматоха, которая воспоследовала, сначала была принята за предвестие политического мятежа, и участники акции только чудом остались невредимы, отделавшись парой ночей, проведенных в камере предварительного заключения.
В письме 1824 года Кипренский называет еще одного натурщика, некоего Антонио. Вне всякого сомнения, это тот самый человек, которого в начале 1820‐х описал маркиз Массимо Д’Адзельо:
После обеда я пошел в класс обнаженной натуры, который содержал Антонио, натурщик, хорошо известный всем немолодым художникам. Некрасивый лицом, он был великолепно сложен – истинный образец той античной расы, которая населяет барельефы колонны Траяна. Антонио был добрейшим человеком, интересовался искусством; он давал кредит малоимущим молодым ученикам, и даже иногда помогал им своими деньгами <…>. Но правда и то, что под горячую руку он убил своего брата. Нет в мире совершенства!131
И этот натурщик неоднократно упоминается в дневнике Эккерсберга в то же время, что и Скачча, и его имя связано с другими художниками эпохи: такими, например, как туринский исторический живописец Луиджи Барне, стипендиат Академии Святого Луки, и Дэвид Скотт, шотландский исторический живописец132. В воспоминаниях Подести утверждается, что Антонио и Мачеллайо, упомянутый биографом Минарди, – это одно и то же лицо (возможно, что прозвище Мачеллайо – мясник – было спровоцировано именно совершенным им преступлением). Свидетельство Подести относится к лету 1836 года, когда в Риме появились первые признаки той эпидемии холеры, которая поразила Вечный город в следующем году:
<…> однажды, когда [он] был у некоего Антонио по прозвищу Мачеллайо, он спросил его в шутку: что ты скажешь о холере? ты ее боишься? – Я боюсь? ответил он; я не боюсь и самого дьявола. – Он и вправду был отважнейшим человеком, римлянином античных времен, сильным, как гладиатор133.
Не стоит говорить, что через день Подести узнал, что натурщик умер от этой страшной болезни…
4. Международная колония художников
Обратимся теперь к русским художникам, которые в конце XVIII – начале XIX века жили в Риме. Если говорить о первых двух годах пребывания Кипренского в Италии, то в соответствующей литературе, как правило, упоминается только сравнительно немолодой пейзажист Ф. М. Матвеев (жил в Риме уже с 1779-го). По словам С. И. Гальберга, отношения между Кипренским и Матвеевым, которого подозревали в том, что он по поручению А. Я. Италинского шпионил за стипендиатами Академии, были не очень-то дружескими134. Но теперь мы можем дополнить скупые сведения о жизни Матвеева в Риме несколькими интересными и ранее неизвестными фактами.
Известно, что Матвеев имел семью135, однако он предпочитал скрывать тот факт, что в 1795 году он женился на римской девушке Виттории Кадес, дочери резчика камей Алессандро Кадеса и племяннице Джузеппе Кадеса, исторического живописца, автора утраченного иконостаса для Церкви Святой Марии Магдалины в Павловске136. Поскольку, как это засвидетельствовал в свое время Ф. И. Иордан, «в Папской области <…> иноверца, не принявшего католическую веру, не женят на католичке»137, из самого факта его женитьбы следует, что Матвеев принял католическое вероисповедание. Не случайно, что уже упомянутый выше Н. И. Тургенев, который во время своего пребывания в Риме в ноябре–декабре 1811 года неоднократно встречался с пейзажистом138, не оставил ни одного свидетельства ни о его семье, ни о его обращении в католичество, выражая в своих письмах исключительно восхищение художником и дружеские чувства к нему. О Виттории и ее жизни в браке с Матвеевым мы не знаем почти ничего, за исключением того, что она названа «распутной» в списке художников, относящемся к 1798–1799 годам и составленном шведским ориенталистом Йоханом Давидом Окербладом, который меньше чем через 20 лет станет большим приятелем А. Я. Италинского – и если бы не скоропостижная смерть Окерблада в феврале 1819-го, он стал бы гидом великого князя Михаила Павловича во время пребывания последнего в Риме; к этому мы еще вернемся несколько позже139.
В фонде капитолийского нотариата в Государственном архиве Рима хранится завещание Матвеева, составленное за несколько дней до его смерти в августе 1826 года140. Документ, датированный 31 июля, не содержит каких-либо особенно значительных сведений, кроме подтверждения того, что Матвеев умер католиком, – в нем выражено желание Матвеева быть похороненным в церкви Сант-Адриано, в приходе которой он тогда жил, и назначения его жены Виттории единственной наследницей всего его имущества141. Несмотря на то что это имущество в завещании не описано подробно, из него все же следует, что художник не был таким неимущим, как за восемь лет до того, когда император Александр I, осведомленный о его материальных затруднениях, распорядился назначить ему пожизненную ренту142. Но нам не удалось найти следов захоронения Матвеева – несомненно только то, что он не был похоронен на некатолическом кладбище Тестаччо.
Однако в действительности, кроме Матвеева, в Италии в первые десятилетия XIX века проживали и другие художники, подданные Российской империи, следовательно, русские с точки зрения если не этнической, то геополитической: прибалтийские художники Эдуард Шмидт фон дер Лауниц, Густав Фомич Гиппиус, Иван Егорович Эггинк, Август Иванович Пецольд, Отто Фридрих Игнациус, Йоганн Якоб Мюллер и Василий Федорович Бинеман, прибывшие в Рим в 1817 году143. Кроме них, следует назвать барона Отто Магнуса фон Штакельберга, археолога и живописца, посетившего Рим во второй раз в 1816‐м, и рижского художника Э. Г. Боссе, прибывшего в Рим из Дрездена в том же году144. Неудивительно, что эти художники были культурными космополитами – возможно, они были более близки немецкой колонии, чем русской, хотя впоследствии стала совершенно обычной презентация человека соответственно «официальной» национальной принадлежности: так, например, Игнациус был отрекомендован датскому скульптору Торвальдсену как «русский художник», и в списке почетных членов Академии Святого Луки художник Бинеман тоже назван «русским»145.
В апреле 1819 года все они приняли участие в экстраординарном для Рима тех лет событии, о котором подробнее мы скажем позже: выставке работ немецких художников, организованной в резиденции прусского посольства Палаццо Каффарелли по случаю визита австрийского императора Франца I. Здесь необходимо только заметить, что единственным исключением из общего немецкого состава экспонентов (немецкого в широком смысле слова, поскольку в выставке участвовали швейцарские, австрийские, бельгийские, голландские, шведские, датские и прибалтийские художники – этих последних Фридрих Шлегель симптоматично назвал выходцами «из тевтонских провинций Российской империи»)146 были итальянец Пьетро Тенерани и наш Кипренский.
В любом случае с конца 1818 года и русские коллеги Кипренского, хорошо известные искусствоведам, приезжали в Рим совершенствовать свое мастерство147: живописцы Сильвестр Феодосиевич Щедрин и Василий Кондратьевич Сазонов (приехавший на средства графа Николая Петровича Румянцева), скульпторы Михаил Григорьевич Крылов, Самуил Иванович Гальберг и Василий Алексеевич Глинка. Во время карнавала 1819 года в Риме находился поэт Константин Николаевич Батюшков148, прибывший 5 февраля вместе с Филиппом Федоровичем Эльсоном, а в конце этого года к ним присоединились исторический живописец Петр Васильевич Басин и Константин Андреевич Тон; в марте 1820 года, после остановки в Милане, в Вечный город вслед за покровительствующей ему княгиней Зинаидой Александровной Волконской приехал Федор Антонович Бруни149. Наконец, в 1821‐м в Италию за свой счет прибыл исторический живописец Иосиф Иванович Габерцеттель, есть свидетельство пребывания в Риме в это же время пейзажиста Филипсона (имя и отчество его неизвестны, но возможно, что это «великолепный пейзажист» из Лифляндии Филипсен, упомянутый немецким искусствоведом Георгом Каспаром Наглером)150. С одними Кипренского связывали тесные дружеские отношения, с другими – спорадические и поверхностные, но многим, не имеющим собственных возможностей, он помогал найти квартиру или обеспечивал заказы.
В Риме в это время были и поляки. Любопытна, в частности, заметка в дневнике художника Войцеха Статлера, жившего в Вечном городе с середины октября 1818 года. 13 января 1819‐го он описал визит к своему соотечественнику, архитектору Каролю Подчашиньскому, в день православного Нового года:
<…> застали у него всех российских пенсионеров, которые поцеловались с ним и по очереди с нами. Это были зрелые и просвещенные люди, отличные художники. Щедрин – пейзажист, обожаемый в Риме, архитектор Глинка из Смоленска, два скульптора – Крылов и Гальберг – очень образованный! и Сазонов, пенсионер князя Румянцева151.
Отсутствие Кипренского на этом празднике можно объяснить, обратившись к его письму к А. Н. Оленину от 3 июня 1819 года: здесь художник пишет, что незадолго до приезда в Рим великого князя Михаила Павловича в начале февраля 1819‐го он, «рисуя Амазонку, простудился зимою в Ватикане и был 5 недель болен» (I: 142). Однако, даже учитывая то, что Кипренский не мог посетить этот праздник из‐за болезни, все же бросается в глаза отсутствие каких-либо упоминаний его имени в дневнике Статлера.
Что же касается французских художников, то, кроме установленного нами знакомства Кипренского с Ж. Б. Викаром, среди многих французских стипендиатов, обосновавшихся в исторической Французской академии на вилле Медичи, в письмах русского художника документировано только знакомство с живописцем Жаном Виктором Шнетцем. В эпистолярии Кипренского, однако, встречаются имена художников других национальностей: им упомянуты датчанин Торвальдсен152, швейцарцы Луи Леопольд Робер и Самуэль Амслер, живописец и гравер, соответственно. Из числа английских коллег Кипренский называет шотландского скульптора Томаса Кэмпбелла, который в 1820‐м поселился, как и Кипренский, в апартаментах на улице Сант-Исидоро153. И, возвращаясь к немцам, отметим, что в том же году соседом Кипренского был художник Иоганн Фридрих Гельмсдорф, который через какое-то время покинул Рим после трехлетнего в нем пребывания. К этим именам можно добавить имена тех людей, которым Кипренский в письме 1825 года передавал приветы: это живописцы Фридрих Овербек и Франц Катель, скульптор и живописец Конрад Эберхард и гравер Карл Барт154.
К сожалению, за этот первый период пребывания Кипренского в Италии нет прямых свидетельств знакомства русского художника с Карлом Христианом Фогель фон Фогельштейном, который 28 июля 1823 года создал в Дрездене портрет Кипренского (Купферштих-Кабинет, Дрезден; см. ил. 11). Но Фогель, живший в Петербурге между 1808 и 1812 годами, впоследствии переселился в Рим и оставался в Вечном городе до 1820-го, после чего отправился в Дрезден, чтобы вступить в должность профессора Дрезденской академии изящных искусств155. И поскольку он жил в доме № 64 по Виа Систина, близ улицы Сант-Исидоро, вполне возможно предположить, что Кипренский с ним встречался. 29 апреля 1818 года Фогель присутствовал на празднике, данном немецкими художниками в честь короля Людвига I Баварского, в котором участвовали почти все вышеупомянутые деятели искусства, а также и другие, о которых будет сказано ниже156. Кипренского не было на празднике и в этом случае: в следующей главе мы попытаемся прояснить причины его отсутствия.
И вот, наконец, последнее идентифицированное нами знакомство, о котором необходимо упомянуть в том числе и потому, что этот человек нам еще встретится. В самом начале второго письма к Гальбергу из Флоренции от февраля 1822 года Кипренский пишет со своим обычным альтруизмом:
Податель сего разузорочного письма есть некто Голлан[д]ец из Амстердама, метящий <…> в Исторические живописцы <…>. Нет ли у Масучия ателье для него, в противном случае посоветуйте ему потолкаться поискать у quatro Fontana, там, кажется, весьма порядочное место для трудолюбивого человека (I: 145).
Есть самые серьезные основания полагать, что здесь речь идет о Корнелисе Круземане, единственном историческом живописце из Амстердама, который в тот момент находился во Флоренции. Круземан описывает Флоренцию в дневниковой записи от 11 февраля и замечает, что, прибыв через два дня в Рим, он нанял квартиру на Страда Феличе (в настоящее время – часть Виа Систина)157 – то есть как раз в районе Пьяцца делле Куаттро Фонтане, именно там, где и советовал Кипренский. Несмотря на то, что в дневнике Круземана Кипренский не упомянут, очень вероятно, что они встретились во Флоренции и что, следовательно, письмо Кипренского можно датировать более точно – скорее всего, оно написано между 10 и 12 февраля 1822 года.
В заключение можно сказать, что в течение первого пребывания Кипренского в Италии его общение с художниками немецкой колонии было более тесным и интенсивным – может быть, даже более, чем с итальянскими. Хотя Кипренский в этот период и написал портрет Грегорио Фиданца, в его письмах имена итальянских мастеров, среди которых особенно значимы Антонио Канова и Анджело Тозелли, все же названы вскользь, случайно, – как, например имена скульптора Пьетро Тенерани, живописцев Пьетро и Винченцо Камуччини и гравера Бартоломео Пинелли. И, что вполне согласуется с историческими фактами, теперь частично дополненными158, многочисленность колонии немецких художников в Риме удостоверена документами эпохи: в каталоге выставки 1819 года в Палаццо Каффарелли мы находим более 40 немецких имен, а в статье 1820-го – около трех десятков159.
Итак, совершенно не случайно 1 февраля (ст. ст.) 1824 года Кипренский писал Гальбергу из Петербурга: «Кланяюсь <…> всем любезным немцам, коих я очень почитаю за их привязанность к художествам и добрые нравы» (I: 151). Не забудем и о том, что сам русский художник имел немецкую фамилию Швальбе и был рожден на границе Санкт-Петербургской губернии, исторически именовавшейся Ингерманландией. И бесконечно жаль, что в опубликованных дневниках, письмах и мемуарах о том времени, которые оставили многие немецкие художники, имя Кипренского не всплывает ни разу.
Приехав в Италию уже сформировавшимся мастером по сравнению с соотечественниками, которые последовали за ним, Кипренский не стал почивать на лаврах. С одной стороны, он воспользовался своим бóльшим опытом, чтобы сразу взяться за работу, с другой – не пренебрег и тем, чтобы, так сказать, включиться в игру, пройдя сразу после приезда в Рим ответственный курс перспективы у Тозелли160. Это обстоятельство плохо согласуется с представлением о Кипренском как о тщеславном художнике, да и энтузиазм, с которым отозвался о русском мастере Викар в письме к Канове, удостоверяет истину тех шутливых гиперболических самохарактеристик Кипренского, которые, будучи трактованы неблагосклонно, могут показаться бравадой – и в некоторых случаях так и интерпретируются.
Если выйти за пределы исключительно русской оптики, временами чрезмерно пристрастной, а также более внимательно присмотреться к кругу знакомств и связей Кипренского в свете вводимых здесь в научный оборот материалов, мы увидим лицо человека, более близкого к той мультикультурной интернациональной среде, в которой он вращался, лицо, более соответствующее сердечному и открытому характеру русского художника, который, может быть, недооценен его биографами.
И хотя в целом вырисовывающаяся картина является довольно сложной и насыщенной, в ней все еще остаются темные места, двусмысленности и монохромные пятна, препятствующие простой хронике стать биографией в полном и лучшем смысле этого слова. Наиболее неясные (и наиболее значительные) фрагменты этой картины мы попытаемся конкретизировать, представив в последующих главах ряд документов, которые, как нам кажется, позволят придать ей больше глубины и колорита.
Глава 2
«О нем рассказывали ужасную историю»: происшествия 1818 года
После долгих и безуспешных разысканий, прежде всего в фондах Главного управления полиции в Государственном архиве Рима и далее – в других собраниях документов, наши усилия, имеющие целью пролить свет на легенду о смерти некой натурщицы в римской мастерской Кипренского, наконец-то увенчались успехом. В одной из рубрик Трибунала правительства Рима161 за 1818 год, под литерой «C» и с протокольным номером 5608, нам удалось идентифицировать подшивку материалов, озаглавленную «Chiprerc Oreste» и касающуюся этого происшествия (см. ил. 1). Искажение фамилии художника в различных документах эпохи и в газетах того времени, как мы уже имели возможность отметить, не было исключительным фактом, но в данном случае и дата архивного дела не соответствует тому, что было известно об этом происшествии до настоящего времени.
Но сначала бросим беглый взгляд на литературную историю этого трагического события. На самом деле единственное и основное свидетельство о нем оставлено Ф. И. Иорданом; теоретически рассуждая, оно должно быть основано на признании, которое Кипренский сделал ему много лет спустя (русский гравер приехал в Рим только в апреле 1835-го)162.
В биографическом же очерке, напечатанном в «Художественной газете» в 1840 году, есть лишь неопределенный намек на эту трагедию, относимую, как это следует из приведенной ниже цитаты, к 1830‐м:
В 1828 году он вторично отправился за границу и уже более не возвращался. Последнее время пребывания его в Италии было отравлено одним очень неприятным обстоятельством, имевшим влияние и на талант, и на самую жизнь его. Умолчим о нем, чтобы по крайней мере не отравлять памяти человека163.
Однако С. И. Гальберг в воспоминаниях, приводимых в этом же очерке, относит это «обстоятельство» к первому периоду жизни Кипренского в Италии, но и он делает это очень сдержанно и осторожно:
В первое время пребывания его в Риме <…> несчастное приключение вдруг всех от него отдалило, и я не берусь оправдать его в этой истории – а можно. Общее мнение было против него до такой степени, что долго не смел он один по улице пройти. Очень вероятно, что это имело влияние на последующие его работы164.



