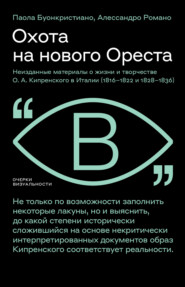
Полная версия:
Охота на нового Ореста. Неизданные материалы о жизни и творчестве О. А. Кипренского в Италии (1816–1822 и 1828–1836)
В этих условиях, довольно роскошных и, как очевидно, очень удобных, Кипренский работал до 1822 года. После «Портрета лейб-гусарского полковника Альбрехта» в 1817‐м он написал «Портрет князя Е. Г. Гагарина в детстве» и картину «Молодой садовник». Эта последняя работа особенно знаменательна, поскольку она является первой картиной, написанной в новой манере, соединяющей элементы жанровой живописи с гармонией ренессансного канона57. Не вдаваясь подробно в специальные искусствоведческие проблемы, отметим только, что поза молодого садовника Кипренского, возможно, инспирирована картиной эпохи барокко «Мальчики с виноградом», принадлежащей кисти неаполитанского художника школы Караваджо Джованни Баттиста Караччоло по прозвищу Баттистелло58 (1600‐е, Художественная галерея Южной Австралии; см. ил. 15 и 17). К сожалению, о местонахождении картины Баттистелло в первые десятилетия XIX века не сохранилось никаких сведений; более того – неизвестно, правильно ли она была тогда атрибутирована: итак, невозможно выяснить, знал ли ее русский художник; но не может не вызвать интереса то, что подобный тип композиции был, как мы это впоследствии увидим, использован Кипренским и в неаполитанский период его жизни в Италии.
К середине 1817 года относится сложный и стоивший художнику многих усилий замысел полотна «Аполлон, поразивший Пифона» (I: 134) – эскиз «на темной бумаге двумя карандашами»59. И в этом случае, оставляя в стороне чисто эстетические проблемы, попытаемся привести несколько новых фактов, дополняющих историю этой утраченной картины. Обратим внимание на обнаруженное К. Ю. Лаппо-Данилевским несколько лет назад письмо А. Н. Оленина, адресованное в Италию поэту Константину Николаевичу Батюшкову 11 ноября (ст. ст.) 1818 года. Между прочим президент Академии художеств писал: «уговорите же его [Кипренского] не писать Аполлона Бельведерского как картину. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это не может быть хорошо»60. Это, несомненно, то самое письмо, на которое Батюшков ответил из Рима в феврале следующего года, сообщая: «[Кипренский] еще не писал Аполлона и едва ли писать его станет, разве из упрямства»61. 13 марта (ст. ст.) 1819 года Оленин с удовлетворением воспринял сообщение о возможном отказе художника от работы над замыслом, обреченным на неуспех (III: 384).
Начиная с этого момента и для последующих двух с половиной лет мы не располагаем никакими сведениями о возможном продолжении этой работы. Однако с 9 по 20 сентября 1821 года в жилище Кипренского проходила его персональная выставка, анонсированная газетой «Diario di Roma» (Римский дневник)62. Среди прочих ее посетил немецкий искусствовед Иоганн Давид Пассаван, посвятивший ей один из своих репортажей о жизни художников в Вечном городе63. В его рецензии есть замечание, которое, как ни странно, никогда не принималось во внимание64, – а именно то, что наряду с другими произведениями был выставлен и «Аполлон», хотя все еще на стадии картона, далее которой Кипренский в конечном счете никогда не продвинулся.
Но основное внимание в рецензии Пассавана уделено другому полотну, задуманному во второй половине 1810 годов, картине «Анакреонова гробница», о которой у нас еще будет случай вспомнить. Через месяц после публикации рецензия Пассавана была перепечатана в России журналом «Сын отечества». Здесь будет уместно воспроизвести эту публикацию полностью, заключив в квадратные скобки курьезные цензурные изъятия из оригинального текста:
Сюжет картины сам по себе уже довольно странен: на ней изображена пляска молодого безобразного фавна с [обнаженной] вакханкой65 около гробницы Анакреона, а другой фавн постарше играет на флейте; богатый пейзаж, слабо освещенный, как будто лунным светом, заполняет большое пространство вокруг фигур, выделенных солнечными лучами66. Кожа писана весьма странным приемом, она как бы составлена из ярко определенных красок (белой, желтой, красной и голубой), но таким образом, что только с некоторого расстояния они составляют общий тон кожи; краска наведена так густо, что во многих местах как бы сморщилась. И все-таки картина остается произведением, которому можно удивляться, хотя с некоторой озадаченностью. Не менее странна и другая начатая Кипренским работа, представляющая в натуральную величину Аполлона Бельведерского, который, впрочем, должен аллегорически изображать Россию, поразившую змея-Наполеона. [Из деликатности тонкое облако прикрывает нижнюю часть тела]67.
Невозможно не задаться вопросом, случайны ли эти цензурные изъятия или они являются следствием излишней стыдливости русского редактора – свойство, очевидно, общее для императорской России и папского Рима, где сложное отношение к обнаженному человеческому телу имело старинные корни (достаточно вспомнить обвинения в безнравственности, предъявленные Микеланджело за обнаженные фигуры на фреске «Страшный суд»).
Известно, что картине Кипренского «Анакреонова гробница» некто Микеле Чотти68 посвятил стихотворение «La Tomba d’Anacreonte. Quadro d’Orest Kiprenschy da Pietroburgo», напечатанное отдельной брошюрой в Риме в 1820 году. Высказывалось предположение, что это стихотворение было заказано самим художником, желающим добиться благоволения не расположенного к нему императорского двора (IV: 684); но в действительности сам по себе этот факт нисколько не является необычным. Вот лишь два примера: в 1833 году гравер и скульптор Винченцо Гаясси посвятил терцины полотну Брюллова «Последний день Помпеи», а в 1845‐м литератор, аббат Эммануэле Муццарелли написал сонет по картине Бруни «Медный змий»69.
Несмотря на то что Чотти был поэтом, малоизвестным даже среди современников, в периодике этого времени сообщается о многочисленных поэтических чтениях в Академии Тиберина70, знаменитом римском литературном обществе: в частности, на заседании 3 июня 1821 года Чотти декламировал стихотворение под названием «Анакреонтика»71; именно так озаглавлена его упомянутая выше брошюра. Среди прочих членом Академии был и Антонио Канова, в библиотеке которого сохранился экземпляр брошюры Чотти72, возможно, подаренный скульптору лично Кипренским.
В том, что касается выполненных в Италии работ Кипренского, наши исследования нацелены прежде всего на выявление новых фактов, которые могли бы не только обогатить сведения об известных его картинах, но и – главным образом – способствовать обнаружению новых, ранее неизвестных. Однако при этом невозможно избегнуть и обратного результата – к счастью, это только один случай, – а именно опровержения принятой атрибуции произведения Кипренскому. Мы имеем в виду рисунок, относящийся к 1818 году и известный под названием «Портрет графа Петра Дмитриевича Бутурлина».
В первые времена Реставрации немногие русские имели возможность побывать в Италии, если только это не было вызвано необходимостью дипломатических отношений между Россией и Европой. Однако в начале ноября 1817 года граф Дмитрий Петрович Бутурлин, директор Эрмитажа и известный библиофил, вышел в отставку и переселился вместе с семьей во Флоренцию, где и прожил до самой своей смерти в 1829‐м. Исследователи И. Н. Бочаров и Ю. П. Глушакова, обратившиеся к итальянским потомкам Бутурлиных, атрибутировали Кипренскому карандашный рисунок, датированный 1818 годом, а именно – «Портрет графа Петра Дмитриевича Бутурлина» (см. ил. 6); несмотря на отсутствие каких бы то ни было доказательств того, что художник когда-либо работал для этого семейства, ученые сочли этот рисунок несомненно неизвестным и притом значительным произведением Кипренского, свидетельствующим о более тесных и регулярных, чем это было принято полагать, отношениях художника с Бутурлиными73.
Однако пребывание Кипренского во Флоренции в 1818 году никак не документировано, и более того: в «Записках» младшего брата П. Д. Бутурлина Михаила Дмитриевича Бутурлина, внимательного летописца семейной истории, нет ни одного упоминания – как следовало бы ожидать – о том, что Кипренский создал портрет его старшего брата. Кроме того, сомнения в атрибуции рисунка Кипренскому внушает и сделанная на нем надпись «Natalie 1818», интерпретированная вышеупомянутыми учеными как простое указание на время создания, а не как подпись художника: по их мнению, после полутора лет пребывания в Италии Кипренский сделал ошибку в слове «Natale» (Рождество), которое в таком случае является не подписью автора, а датой создания портрета: «Рождество 1818 года». Но «Натали» – это все же женское имя; и если для проверки атрибуции постараться поискать рисунок с аналогичной подписью, мы обнаружим таковой, принадлежащий руке Натальи Ивановны Ивановой, племянницы Софии Ивановны Загряжской, жены савойского графа Ксавье де Местра. Этот рисунок является частью альбома, сохранившегося в архиве де Местров в словацком замке Бродзяны (тогда эта местность принадлежала Венгрии; в Бродзянах находится единственный в Европе музей А. С. Пушкина). Эта резиденция была в 1844 году приобретена бароном Густавом Виктором Фогель фон Фризенгофом, женой которого Н. И. Иванова стала в апреле 1836‐го в Риме74. Получив любезно предоставленную нам директором музея в Бродзянах репродукцию портрета, мы были поражены его абсолютной идентичностью карандашному портрету П. Д. Бутурлина, который ошибочно атрибутирован Кипренскому (см. ил. 5).
Что же касается определения точного времени и обстоятельств, при которых этот портрет был создан, то из послужного списка П. Д. Бутурлина следует, что около середины осени 1818 года юноша возвратился в Россию, где и оставался некоторое время, прежде чем отправиться в Париж75. Следовательно, вполне возможно предположить, что портрет был создан в конце того же года в России, где в это же самое время проживало и семейство де Местров76: уже с середины 1810‐х граф Ксавье де Местр был постоянным посетителем салона Бутурлиных, будучи хорошим другом Анны Артемьевны Воронцовой, супруги графа Дмитрия Петровича77. Склонность Н. И. Ивановой к живописи исчерпывающе документирована, и в письмах графа де Местра можно найти сведения о том, что летом 1830 и 1831 годов Наталья посещала уроки акварельной живописи у неаполитанского пейзажиста Джачинто Джиганте78, довольно известного представителя живописной школы Позиллипо.
Проблематичным оказался и тот факт, что портрет, обнаруженный двумя русскими учеными в Италии, назван ими рисунком. Занимаясь этим вопросом, мы выяснили, что литография «Портрета графа Бутурлина» «была передана Музею истории города Обнинска в дар потомками Бутурлиных в Италии через журналиста И. Н. Бочарова»79. Что же это? третья копия, идентичная двум предыдущим? В ответе на наш запрос исторический отдел музея сообщил, что в действительности речь идет о литографии, выполненной в начале XIX века и полученной в дар от Джорджо Бутурлина-Янга, одного из потомков этой русско-флорентийской династии. Следовательно, разрешить эту запутанную проблему можно, только предположив, что оригинал портрета, созданный Натальей Ивановой в 1818 году в России, остался у де Местров, но с этого рисунка, очень понравившегося Петру Дмитриевичу, была сделана литография, которая отправилась вместе с ним в Италию, впоследствии перешла к его потомкам, считавшим ее рисунком Кипренского, и недавно именно она и была передана российскому музею.
Начиная с 1818 года в письмах Кипренского появляется имя некоего Пьетро Деликати, который неоднократно информировал Лонгинова о делах Кипренского. Несмотря на то что суждения Деликати в этот период были для Кипренского очень лестными, в 1824 году в письме к Гальбергу художник упомянул его среди своих врагов (I: 150): это свидетельствует о том, что между ними произошел какой-то разлад.
Речь идет о композиторе и учителе музыки Пьетро Деликати родом из города Лорето80. В апреле 1803‐го он приехал в Петербург с рекомендательным письмом кардинала Эрколе Консальви вместе с семейством своей юной ученицы княжны Марии Яковлевны Лобановой-Ростовской81. В России Деликати провел около десяти лет, работая учителем музыки и завязав близкие дружеские отношения в том числе с секретарем императрицы Николаем Михайловичем Лонгиновым и публицистом Александром Ивановичем Тургеневым82 (не исключено и то, что он уже в Петербурге познакомился с Кипренским). Согласно его свидетельству (автограф, представляющий собой что-то вроде краткого жизнеописания автора, недавно обнаруженный его потомком, композитором Карло Деликати)83, он сопровождал графа Карла Васильевича Нессельроде на Венский конгресс – но эта деталь заставляет усомниться в достоверности сведений, изложенных в манускрипте: хотя пребывание Деликати в Вене в 1814 году подтверждено письмом Доротеи Шлегель к сыну, художнику Йонасу Фейту, который в это время находился в Риме, нам не удалось обнаружить имени Деликати в бумагах Нессельроде84.
В начале 1815 года Деликати вернулся в Рим, где в течение тридцати лет поддерживал постоянные отношения не только с Кипренским, но и со многими представителями русской колонии в Риме, часто играя роль их посредника: среди них были Самуил Иванович Гальберг, граф Александр Иванович Остерман-Толстой, пейзажист Сильвестр Феодосиевич Щедрин, бывшая его ученицей Мария Яковлевна Лобанова-Ростовская, в 1808‐м вышедшая замуж за Кирилла Александровича Нарышкина, сына вышеупомянутого директора Императорских театров85; наконец, Григорий Иванович Гагарин, по поручению которого Деликати организовал аукционную распродажу книг, оставленных Гагариным в Риме после того, как он был назначен посланником при баварском дворе86, а также Федор Александрович Голицын, который в 1839 году воспользовался услугами Деликати при покупке недвижимости, ныне известной как Палаццо Арагона Гонзага (или Негрони, или еще Балами Голицын)87.
Беглую характеристику этого человека набросала в своем письме из Рима от 30 марта 1838 года княгиня Зинаида Александровна Волконская – фрагмент этого письма заслуживает цитации:
Со времен Гагарина г. Деликати, прежде бывший учителем музыки в России, весьма честный человек, с множеством респектабельных знакомств, много раз оказывался полезным в разных обстоятельствах и всегда давал доказательства своей порядочности. Граф Гурьев <…> доверил ему управление польским костелом Святого Станислава и прилегающими зданиями88.
Это последнее сообщение позволяет также установить связь между Деликати и аббатом Антонио Сартори, рисованный портрет которого Кипренский создал в начале 1820‐х; Сартори был сначала вице-ректором, а затем – ректором именно костела Святого Станислава на Виа делле Боттеге Оскуре89. Существует и другой портрет этого священнослужителя, в акварели архитектора Николая Ефимовича Ефимова и Карла Павловича Брюллова «Зрительный зал театра в доме князя Г. И. Гагарина в Риме» (1830, ГИМ), запечатлевшей представление, организованное князем Гагариным в Галерее Кортона в Палаццо Памфили в феврале 1830 года90: в глубине акварели – сцена, на которой идет представление водевиля «Медведь и паша», а слева на переднем плане присутствуют княгиня З. А. Волконская и аббат Сартори, пожилой и корпулентный – очень похожий на персонажа рисунка Кипренского (см. ил. 9 и 10)91.
Здесь необходимо заметить, что Пьетро Деликати был тезкой профессора геометрии, перспективы и оптики Академии Святого Луки – в результате этих людей, живших и работавших в Риме в одно и то же время, периодически путают92. Например, в феврале 1821 года от имени интересующего нас Деликати был направлен запрос относительно возможности вывоза в Россию двенадцати картин современных художников93. Заказанные тайным советником Петром Львовичем Давыдовым, картины этих «славных пейзажистов», среди которых был Ф. М. Матвеев, были выставлены в римском доме Деликати – в Палаццо Потенциани, № 24 по Виа деи Луккези. И тут же в следующем году состоялась еще одна маленькая выставка94 – на этот раз картины были заказаны Николаем Дмитриевичем Гурьевым, будущим российским посланником в Риме; для их вывоза Деликати запросил другое разрешение. Это подтверждается тем фактом, что и несколько лет спустя наш «светлейший синьор Пьетро Деликати» проживал по этому же адресу95, между тем как в начале 1820‐х профессор Академии Пьетро Деликати имел местожительство на Виа Ларга алла Кьеза Нуова, № 21.
Наверное, мы никогда не узнаем, чем Деликати досадил Кипренскому в 1824 году, но восемь лет спустя, будучи в Риме, вышеупомянутый А. И. Тургенев оставил в дневнике запись об утренних часах, проведенных в обществе их обоих (III: 462): вероятно, с течением времени эмоции остыли, и художник не сохранил неприязни к Деликати.
Вот уже много лет идентификация личности человека, изображенного на «Портрете князя А. М. Голицына» – шедевре Кипренского, традиционно датируемом 1819 годом, является спорной96. Сомнение в атрибуции персонажа, обычно считавшегося коллекционером и страстным любителем искусства Александром Михайловичем из ветви Голицыных-Михайловичей (род. в 1772‐м), породило одно из писем С. Ф. Щедрина: 5 марта 1819 года он сообщал родителям, что встретился в Риме с «молодым мне знакомым Галицином»97: возможно ли, чтобы сорокасемилетний человек был назван «молодым»? Недавно, в качестве альтернативы, было высказано предположение, что речь может идти о его тезке из ветви Голицыных-Алексеевичей (1798 года рождения)98. И это еще одно запутанное обстоятельство, требующее своего прояснения.
Обратимся к точному факту: человек, изображенный на интересующем нас портрете, – несомненно, отец братьев Федора Александровича и Михаила Александровича Голицыных: это становится очевидно, если сравнить портрет Кипренского с другим миниатюрным портретом, созданным немногими годами ранее французским художником Даниэлем Сеном (Государственный музей А. С. Пушкина). Его присутствие в Италии в 1819 году исчерпывающе документировано, например, М. Д. Бутурлиным, который засвидетельствовал свою встречу во Флоренции с князем А. М. Голицыным, «покупателем драгоценных картин и разных редкостей»99. Этого более чем достаточно, чтобы отличить его от его тезки, который никогда не проявлял специальной страсти к произведениям искусства и тем более не был в это время за границей.
Другое доказательство предложенной атрибуции можно обнаружить в мемуарах французского писателя Ипполита Николя Огюста Оже, который описывает различные встречи с князем в Париже в период конца 1819–1820 годов, упоминая также его прозвище «prince-cheval» (князь-лошадь), которым его обладатель был обязан своему длинному лицу, подобному тому, которое мы видим на вышеупомянутых портретах100. Оже сообщает также и о том, что, прежде чем приехать в Париж, А. М. Голицын жил в Неаполе; этот же факт подтверждают и несколько писем С. Ф. Щедрина, написанные между июнем и ноябрем 1819 года101. Возможно, что князь находился в Королевстве Обеих Сицилий с лета 1818-го, поскольку он отправился туда вместе с художником Францем Кателем102. Наконец, еще одно письмо, написанное из Неаполя, а именно – письмо К. Н. Батюшкова к А. И. Тургеневу от 3 октября 1819 года, – сообщает о скором отъезде князя А. М. Голицына из этого города: будучи «влюбленным в Неаполь, [он] решился покинуть свою арену и отправляется в Париж»103.
Отсюда следует очень вероятное предположение, что портрет Голицына был создан Кипренским не позже октября 1819-го: присутствие А. М. Голицына в Риме в это время подтверждается воспоминаниями С. И. Гальберга104. И, прибавим, фон портрета, вероятно, был написан за очень короткое время, поскольку купол собора Святого Петра в Ватикане выглядит несколько несообразно: ему недостает яблока и креста, венчающих лантерну, – это можно объяснить только определенной торопливостью художника в данном случае.
А кто же этот «молодой Галицин»? Возможно, что на самом деле Щедрин имел в виду другого побывавшего в Риме весной этого года отпрыска многочисленной династии Голицыных105.
К первому итальянскому периоду относится написанный Кипренским «Портрет художника Грегорио Фиданца», приобретенный Министерством культуры на аукционе в 1991 году. Грегорио Фиданца принадлежал к семье художников, он был пейзажистом, реставратором, коллекционером, торговцем и непревзойденным имитатором. О нем граф Григорий Владимирович Орлов, чей литографированный портрет Кипренский создал в 1822 году, оставил следующие воспоминания:
В области второстепенной живописи Рим обладает знаменитым пейзажистом в лице кавалера Фиданца, родившегося и образовавшегося в Риме <…>. Величайшая легкость, прекрасный колорит, смелая кисть, отличное знание перспективы – таковы блестящие достоинства Фиданца, который прибавил к ним искусство подражания самым знаменитым пейзажистам; он пишет свои картины с таким сходством, что даже самые опытные знатоки ошибаются, принимая полотна этого художника за картины мастеров, которым он хотел подражать. <…> Его легкая кисть и долгая, исполненная трудов жизнь переполнили Рим, Италию и всю Европу огромным количеством его полотен106.
Тесно связанный с польской колонией в Риме107, член Академии в Риме, Флоренции, Болонье и Парме, Фиданца пользовался и сомнительной славой фальсификатора108.
В письме Кипренского к Гальбергу от 26 июля (ст. ст.) 1827 года находим упоминание о человеке по имени Фиданца, которого, как пишет художник, невозможно встретить «без косы» и «опрятно одетым» (I: 167). Вероятно, русский художник не знал о смерти коллеги – Грегорио Фиданца умер в Риме в январе 1823-го, но принимая во внимание то, что человек на «Портрете Грегорио Фиданца» изображен без неотъемлемой косы и не так чтобы плохо одет, возможно, что в письме Кипренского говорится об одном из сыновей Фиданца, Джованни или Антонио, которых в Риме в 1811 году знавал будущий декабрист Николай Иванович Тургенев, охарактеризовавший их как хороших музыкантов109:
По вечеру <…> ходили к одному рещику, у кот[орого] вчера были, слушать музыку. Играл Поляк Билькевичь на Фортопианах и Фиданца сын на скрыпке, и третий на виолончеле. Все очень хороши. Я много говорил с отцем Фиданца110.
Из двух кандидатов на наличие отношений с Кипренским предпочтительнее, конечно, Джованни, который в это время продолжал жить в Риме: известно, что впоследствии он был помещен в психиатрическую лечебницу, а в 1837‐м был официально признан душевнобольным111 – его личность лучше вписывается в характеристику эксцентричного Фиданца, оставленную Кипренским. Его брат, напротив, впоследствии переселился в Милан, где работал в качестве реставратора и снискал известность как не заслуживающий доверия торговец произведениями искусства112.
В музее Торвальдсена в Копенгагене находится портрет работы Кипренского, который тоже заслуживает нашего внимания. В одном эссе XIX века читаем:
Надо думать, что Торвальдсен высоко ценил талант Кипренского. Это мы заключаем из того, что в числе картин, доставшихся музею от художника, и вообще отличающихся довольно строгим выбором, есть также и другая работа Кипренского, великолепный эскиз, портрет какого-то армянского священника. Кипренский, единственный представитель русского искусства в Торвальдсеновом музее113.
Уже в рукописной описи живописной коллекции Торвальдсена, относящейся к 1830‐м годам, под № 12 значится картина, описанная как «En Armener af Kribrinshij»114 (Армянин Крибринского). Вероятно, произведение, ныне известное под названием «Портрет армянского священника»115, было подарено или продано датскому скульптору между 1832 и 1833 годами, когда Кипренский написал «Портрет Бертеля Торвальдсена». К сожалению, ни в архиве датского скульптора, ни в мемуарах о нем, ни в посвященных его биографии исследованиях имя Кипренского не встречается больше ни разу.
Пытаясь выяснить, кто же изображен на портрете армянского священника, мы обратились за консультацией к библиотекарям армянского монастыря мхитаристов Сан-Ладзаро дельи Армени в Венеции, которые сообщили нам, что по соматическим характеристикам и особенно по греческой камилавке на голове изображенного священнослужителя, его принадлежность к армянской нации в высшей степени маловероятна. Архиепископ православной архиепископии Италии и Мальты, к которому мы обратились за дальнейшими разъяснениями, подтвердил, что на портрете почти безусловно запечатлен священнослужитель греческой православной церкви.
Достойная внимания идентификация модели в этом случае очень затруднительна – за счет скудости иконографических материалов для сравнения и некоторого однообразия лиц: в большинстве случаев это изображения почтенных мужчин, заросших густыми окладистыми бородами, которые не позволяют достаточно хорошо рассмотреть характерные черты лиц. Тем не менее речь может идти только о священнике, жившем или бывавшем в Риме или других итальянских городах. На наш взгляд, подходящим кандидатом в модели Кипренского для этого портрета вероятнее других мог бы быть отец Джоакино Валамонте, уроженец Ионических островов и приходский священник греческой православной церкви Святейшей Троицы в Ливорно с 1810 по 1851 год116. Вплоть до 1823 года – времени учреждения православной церкви при русской дипломатической миссии во Флоренции117 – Валамонте отправлял службы у Бутурлиных в их крошечной домашней часовне, устроенной в начале 1818-го. В мемуарах М. Д. Бутурлина его имя часто встречается. Здесь уместно привести описание его внешности:



