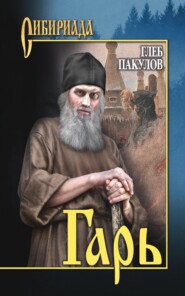скачать книгу бесплатно
Ночь пришла безлунной, чернильной. Погасли и упрятались в темноту последние кострища, берег угомонился, только частые всплески рыбин тревожили тишину, да тихо шепелявила о чем-то своем вечная труженица-река, без устали выглаживая песчаное ложе. Вольготно разбросав руки, спал на тюках кормщик, чмокал во сне, как нерестовый карась в камышовых плавнях, тихо молились протопопы пред створчатым бронзовым ставнем. Молились долго, будто правили всенощную. Когда брусничным соком едва подкрасился восток, растолкали хозяина. Потягиваясь и зевая, кормщик поднял парус, и с попутным ветерком, по течению, поплыли, поеживаясь от свежего утренника.
Быстро отдалилась пристань, помелькали и спрятались золочёные кровли Боголюбова дворища, но долго еще белой прощальной свечечкой с огоньком-искоркой маячил Богородицын храм. И когда он скрылся за далью, Аввакум все еще видел его другими, чудесными, глазами затосковавшей души.
Изрядно обмелевшая к серёдке лета река Ока поджидала их свежей погодой: дул тугой, с наскоками, ветер, из припавших низко к Оке туч вкривь и вкось секло вымоленным дождем, парус намок, мокро хлопал под порывами ветра, и от каждого хлопка сеялся серебряный бус. Поначалу мелкие волнушки только измяли гладь реки, но скоро выстроились взъерошенными грядами, перекатывались, подминая одна другую, вспенивая кружево на крутых горбинах.
Тюки со льном прикрыли плотными рогожами. Дождь полоскал их, и они тихо сияли золотыми ризами. Аввакум, радуясь по-дитячьи, гладил их ладонью, смеялся. Его намокшая грива моталась, из слипшейся клином бороды выцеживалась светлая струйка.
– С праздником плавё-ом! – тоже радуясь дождю, свежему ветру, неожиданно высоким голосом запел Даниил, запрокинув к тучам лицо, крестясь и сглатывая дождинки. – Ангелы Господни, с небес взрящите на нас, ра-а-дых!
Голый по пояс хозяин лодии трудно ворочал кормовым веслом, противясь мощному насаду волн. Тоже возбуждённый свежим ветром и дождем, он озорно подмигнул Аввакуму и поддержал просьбу Даниила разбойничьим ором:
– О-го-го-о! Аньделы-ы! Вздрящите-е!
Промокший до нитки Аввакум хохотал, встряхивался, как водяной. Даниил катался по тюкам, дрыгал ногами. Не разумея их бурного веселья, кормщик смущенно взглядывал на попутчиков, сам такой же густозолотистый, как его рогожки, но тоже подпрыгивал на тюке, открыв губастый рот и густо гыкая.
– О-ой, беда-а! – басил Аввакум. – Грешим не ведая!
Ока вынесла лодию в Волгу, почерневшую от дождя, неприветливую. Однако ветер здесь дул слабее, волны под дождём присмирели, а он то сникал, то приударял шумным ливнем, выглаживая воду тяжелыми шлепками.
– Каво это несёт? – Утирая мокрое в ря?бинах лицо, Даниил всматривался в плывущее наперерез им по течению Волги смутное пятно.
Всмотрелся и Аввакум из-под ладони. Пятно приближалось, выпрастываясь из ливневой завесы, проясняясь. Вблизи него кормщик круто вывернул руль, но страшное сооружение – плот с поставленной на нем виселицей – все же шоркнуло бревнами о борт лодии.
Опутанные по рукам и ногам веревками, на перекладине низкой виселицы болтались два удавленника, уже обклёванные вороньём. Кости держались на сухожилиях и, как живые, дергались от ударов волн в бревна плота. Ничуть не страшась живых людей, на белой ключице одного висельника сидел отяжелевший от дождя и жратвы огромный ворон, нагло вперив в Аввакума неподвижно-чёрные, осоловевшие бусины глаз.
– Страсть какая! – закрестились протопопы. – Боже, буди им, грешным!
О голые черепа повешенных плющился дождь, стекал в пустые занорыши глазниц и, переполнив их, выплескивался, будто скелеты зло оплакивали свою участь. Помраченными от ужаса глазами провожали уплывающих удавленников, у одного из которых при качке плота хлопала желтозубая челюсть.
– Ка-а-ар! – перепрыгнув с плеча на дощечку с надписью дегтем «ВОР», жутко попрощался ворон, и плот сгинул, как занавесился густой сетью ливня.
– Свете наш, Исусе, – шептал Аввакум, раскачиваясь на тюке. – Скорбь и теснота на душе человека, творящего зло. Как скряга, копит он на себя гнев на день гнева и суда Твоего. Каждому воздаешь Ты по делам его, ибо, любя, наказуешь…
Под парусом, притихшие после недоброй встречи, подплыли к Нижнему Новгороду, поддёрнули лодию на песчаный берег, с кормы опустили якорь. Вечерело, все еще, хоть и реденький, накрапывал дождь, кое-где по обрывам и овражкам стлался туман, расчёсанный на долгие неподвижные пряди, пофуркивая крыльями, суетливо – к вёдру – толклись в небе галки. Из-за стен города пучились померкшие купола, где-то там зазвонили спешно, будто пожарным сполохом, но тут же затихли.
Аввакуму надо было зайти в город, увидеть доброго слугу Божьего дьякона Федора, грамотку от московского знакомца передать, да и заночевать не грех. В тепле молебен за всех странствующих отслужить. Господа поблагодарить. Позвал с собой Даниила, тот отказался, да и кормщик отсоветовал – чуть забрезжит, снимутся: ветер попутный, а прозеваешь – на вёслах хлопать в день по версте. Это тебе не в Казань, по течению хоть в кадушке плыви.
Опять зазвонили бессмысленно и часто и смолкли.
– Уж не тебя ль за архиерея встречают? – севшим от пережитого голосом спросил Даниил, глядя на близкие ворота.
– Дрянью звонит, как на пожар, – отмахнулся Аввакум. – Пьяный небось… Благословимся, отче. Коли что, жди в Кострому.
Они перекрестили друг друга, крепко обнялись, и Аввакум, разъезжая ногами в глине косогора, потащился вверх к воротам. У малого входа стоял под навесом от непогоды страж, протопоп узнал его – Луконя – так звали доброго молодца в зеленом с красными прошвами кафтане с бердышом в руках и саблей на боку. В прежние наезды в Нижний Аввакум, бывало, служил службы в местном соборе, и этот стрелец, молодой и усердный прихожанин, исповедовался у него, трудился подпевчим в церковном хоре.
– Батюшко Аввакум! – обрадовался он, выскакивая в дождь из-под навеса. – Котомку-то, котомку изволь поднесть. Неладно ходить стало – полощет два дни уж. Землицу развозжало – ноги стрянут!
Аввакум уступил ему котомку с кое-какими радостями в ней детишкам-малолеткам Ивану с Прокопкой да доченьке Агриппине, да женушке Марковне.
Влево от ворот в неглубокой воронке торчала из земли стриженная клочьями голова. Скорбное место это прозывалось горожанами «колдофой», в приказных бумагах – лобным. Голов здесь не рубили, их ссекали на торгу, сюда приводили сажать в землю по шею за особо тяжкие грехи.
– За что его, бедного? – нахмурился Аввакум. – Давно смертку ждет?
– Это, батюшко, Ксения там прикопана. – Луконя наклонил серповидный бердыш в сторону ямы. – Другую ночь мается, да попустил Бог, все не помрёт. А как стонет, сто-онет!.. Теперь, вишь, не слыхать, может, и отошла.
Луконя вдруг вызверился, замахал бердышом на свору тощих собак, крадущихся вдоль крепостной стены к поживе.
– Чума-а на вас! – зарычал он и с бердышом и котомкой в руке метнулся к ощетинившейся своре.
Сжав зубы и бугря желваки на усохшем лице, Аввакум выструнился, всматриваясь в лицо страдалицы. Подбежал Луконя.
– Ее вечор бы еще сожрали! – Он ознобно передернул плечами, шмыгнул курносым носом. – Ладно, Ефрем стоял караульщиком, не попущал. И я не попущаю. Небось девка. Жалко. А уж какая ладная была сирота гулящая. Годков девятнадцати, не боле. Вишь ты – сына боярского пихнула, не угодил ей чем-то, а он возьми и улети, да об косяк головой, да и помре. Она, бают, из Юрьевца. В Нижнем недолго покрасовалась, вкопали вот…
Слушал его Аввакум, и плавила горючая боль сердце, будто кто жамкал его раскалённой ладонью. Да уж не та ли здесь Ксенушка, красоты пагубной, русалочьей, смертки ждет? Не она ли приходила к нему на исповедь, блудной болезнью полонённая, а он, треокаянный врач, глядючи на нее, сам разболелся, жгомый похотью. Грех ей отпустил наскоро, вытолкнул из церкви и, как помешанный, с темью в глазах, прилепил к налою три свечи, возложил на них правую руку. Уж и мясом горелым завоняло и желание окаянное отступило, а он все держал руку в пламени, пока не свалился замертво.
Аввакум зорко, по-воровски, огляделся, словно испугался – не вслух ли высказал тайную память, но никого, кроме Лукони, ни рядом, ни поодаль не было. Только стремительные стрижи кромсали крыльями низкие полотнища грязных туч да взъерошенные псы, отбежавшие недалече.
– Гляну! – решился Аввакум.
И подбежал к воронке. Навстречу ему омутами озёрными полыхнули безумные глаза Ксении. Боль и страх жили в огромных глазищах, а больше мольба на скорое разрешение от страданий.
Аввакум упал на колени и стал остервенело отгребать землю, выпрастывая деву и взлаивая по-собачьи от удушливых рыданий. Слаб был протопоп на чужую беду и горе.
– Батюшко, нелепое творишь! – подбежал и присел на корточки Луконя. – С меня спрос! Как отбоярюсь?
– А ты… им… лжу… можно! – задыхаясь, рычал Аввакум. – Бог простит тя, не бойсь!.. Псы, мол, вытянули и уперли. – Он сунулся рукой в напоясную кису, показал полтину. – Бери! Свечу ослопную поставь, Христа ради, во спасение Ксенушкино. Не поскупись, Он и тебя не оставит, оборонит.
Вложил в ладонь оторопелому Луконе нежданное богатство, выдернул из норы легонькое, уже натянувшее в себя могильного хлада девичье тельце, притиснул к груди.
– Ой, да куды ты с ней такой? – ошалело глядя на деньги, зашептал Луконя.
– Знаю куды, знаю, – тоже зашептал протопоп, обтирая от грязи лицо Ксении. – В жизнь ей надо, не в могилу, рабе Господней. Не дело человеков душу живу губить. Свете наш Исус на кресте разбойника простил, а уж какой был тать, а эта-то, заблудшенькая, не убивица в сердце своем, не воровала, себя отдавала злодеям за кус хлебушка. Магдалина тож блудницей была. Да кто без греха? Один Бог. А кто не грешил, тот Господу не моливался.
Вымазанный в глине Аввакум опять сторожко осмотрелся, легко поднялся на ноги, кивнул, прощаясь, Луконе. Тот никак не ответил, так и сидел пришибленно на корточках над опустевшей норой. Только когда протопоп, скользя и разъезжая ногами, стал спускаться к берегу, опомнился, догнал его и на ходу накинул на плечо котомку.
Даниил недоумевал – ребёнка большого или кого там несёт Аввакум, – и заторопился навстречу. Когда подбежал и разглядел – откачнулся, и руки, протянутые было поддержать, опустил: голова девки, обхватанная кое-как ножницами, втертая в сорочку глина, черничный, как у удавленника, рот объяснили ему, с какого такого места ухватил протопоп добычу. Молча шлепал за ним до лодии, там помог уместить девку под рогожку. Мрачно и тоже молча наблюдал за их вознёй кормщик.
– Отваливай, – тяжело дыша, попросил Аввакум, протягивая ему рубль. – Ночевать вам здесь негоже, а до темна далече уплывете. А мне в город надо, дело есть.
Глядя на захлюпанного грязью протопопа, кормщик сгреб с его ладони рубль, попробовал на зуб и сунул за щеку. Быстрыми перехватами веревки выдернул якорь. Протопопы навалились на нос лодии, натужились и кое-как спихнули ее – приваленную с наветренной стороны волновым песком – на воду. Хозяин проворно настраивал парус, ветер рвал из рук полотнище, путал растяжки. Даниил забрался на тюки, смотрел на Аввакума, выжидая, что еще накажет.
– В Костроме устрой ее к настоятельнице Меланье, – строго попросил Аввакум. – Она игуменья добрая, монастырь тихий.
Даниил закивал. Аввакум, прощаясь, отогнул рогожку, глянул на Ксению. В ее распахнутых глазах зарождалась живинка, она шевелила бледными теперь губами, еле отжала их от десен и прошелестела еще не вернувшимся в жизнь голосом:
– Прости, батюшка, душа у меня худа-то худа-а, всех-то жа-а-лко…
– Пошё-ёл! – не дослушав ее, поторопил Аввакум. Отталкивая лодию подальше от берега, он забрёл в воду по пояс и стоял в ней чёрной сваей, пока парус не уловил ветра, округлился, и лодия, клонясь набок, ходко пошла вверх по Волге.
Буровя коленями воду, Аввакум выбрел на песок, устало присел на плоский, как стол, камень и сидел под дождем и ветром, исподлобья поторапливал глазами лодию. И она отдалилась, холщовый парус, застиранный дождями, помелькал белым платочком на потемневшем раздолье Волги, и густеющая сутемь зачернила его, втянула в себя, упрятала.
Быстро темнело. Намокшая одежка облепила тело и на свежем ветру холодила, как жабья кожа, будто и не выбрался из воды, да так оно и было – дождь все еще густо сеял, но обнадёживая доброй погодой там, куда скатилось невидимое за день солнце, тоненьким лезвием прочеркнула тьму оранжевая полоска, но потешила не долго, скоро остыла, и черная полсть наглухо застегнулась по всему окоёму.
В створе ворот зажегся фонарь, бледной звездочкой маня к людям, теплу, но Аввакум не спешил к нему. С трудом стащил сапоги, вытряс из них воду с раскисшими стельками, отжал холщовые портянки. И все сидел, свесив с колен могучие руки, слушал сквозь шумок дождя вялое шевеление Волги, смертельно усталый, будто пловец с утопшего судна, обретший спасительный берег.
Деньги, с которыми так легко расстался, были не последними. Остался еще рубль с алтыном и двумя деньгами. Он пересчитал их, ссыпал в кису, упрятал за пазуху.
– Да никак Аввакум?! – окликнул знакомый голос. – Ты ли там пятнишь, отче?
– Да никак ты, Федор? – удивленно отозвался он в темноту.
Подошел дьякон Федор в накинутом на плечи пустом крапивном куле. Протопоп поднялся, стоял перед ним с портянками в руках, улыбался продрогшими губами.
– Как ты здесь? – Он качнулся к дьякону. – В темноте видишь?
Федор засмеялся, кивнул в сторону ворот.
– А ты, брат, храбё-ор, – рукавом смахнул с лица дождинки вместе с улыбкой. – Я тебя еще засветло там углядел. Всякий вечер обхожу сидельцев тюремных, их в подвалах битком, а тут особый случай – на Ксению глянуть, может, причастить тайно. Отказано ей приобщиться святых даров… Ловко ты управился. Жива?
– Успе-ел… Не осуждаешь?
– Сам откопал бы, ночи ждал.
Аввакум подхватил котомку:
– Грамотка тут для тебя.
– Это кто же вспомнил?
– Семен. Домашней церкви боярыни Федосьи Морозовой попец.
– А-а, родня дальняя. Добрый он человек. – Федор вызволил из рук Аввакума котомку. – Знаю и боярыню. Строгая молитвенница Федосья. Ну, тронем, не надобно тут зазря торчать.
Протопоп натянул сапоги на босу ногу, портянки сунул за пояс. Впритирку, плечом подпирая плечо, двинулись вверх по скользкому косогору.
– Кто там у вас дуром звонит? – дыша, как кузнечный мех, поинтересовался Аввакум.
– Да кто?.. Звонят кому не лень, а ноне сына боярского отпевали. Шибко он не люб был людишкам. Вот и звон дурной. Обыскали колокольню – никого. Тут вдругорядь сполох. Чудно-о!.. Постоим давай, отдышимся.
Постояли. Федор досказал:
– А народ доволен. Бесы, говорят, веселуются, душу родственную встречают. Срамной был человече. За кобеля этого Ксению-то…
– Бог ему судья, – сурово предрёк Аввакум.
Кроме тихого огонька в створах городских ворот суетился другой, у самой земли, то пропадая, то оживая. Доносились невнятные голоса. Один говорил громко, с острасткой, другой ответствовал глухо и виновато.
Подошли. В порхающем свете жестяного фонаря с оплавленной сальной свечой узнали сотника Ивана Елагина, сухопарого, с утиным носом и узкими татарскими глазами. Щурясь, он поджидал их с поднятым над головой фонарем.
– А-а, дьяче Фёдор, – вглядываясь из-под отечных век, удивился он и совсем сузил глаза. – Кого это ты привел? Неужто Аввакум-батюшка пожаловал? Давненько не видались. Сказывали, ты в Москве, да при царёвом дворе, а ты вот он. Ну, рад гостю.
За спиной сотника Луконя в красном с желтыми нашвами кафтане, с широким лезвием бердыша, по которому плавали багровые блики, казался страховидным стражем огненной преисподни. Он корчил рожи, отчаянно подмигивал Аввакуму, дескать, все устроил ладом, как договорились.
– Благодарствую на добром слове, Иван, – пряча улыбку, поклонился сотнику протопоп.
– Пошто вы в хлябь этакую да в нощи, аки тати? – Елагин опустил фонарь на землю, глядел на них темными прорезями глаз. – Теперь время стражи, в город пущать не велено, как не знаете? Это ж какие печали на долгих примчали?
– Припозднился, – добродушно прогудел Аввакум. – Домой охота, терпежу нет.
– Чудно-о! – Елагин повилял головой. – Ночью из Юрьевца тож в непогодь сбёг… Кто тебя водит в потемках? Не тот ли, с головой-ухватом?
– Тьфу на тебя! – фыркнул Аввакум. – Не заигрывай с ним, ночью его вражья стража, а не твоя. Ну-тко, окстись!
Елагин суетливо закрестился.
– Ты теперь в Нижнем начальствуешь, я верно укладываю? – спросил Аввакум. – А что в Юрьевце? К чему прибреду?
– Ворочайся с легкой душой, – успокоил сотник. – Там теперь новый воевода – Крюков. Знавал его? Он в охранном полку служил у царевен. Двор твой порушенный поправил, а обидчика твоего Ивана Родионыча в железах на Москву в Разбойный приказ отволок. Радый небось?
– Помилуй его, Господи. – Аввакум перекрестился. – Вот куда ведет гордыня. Жалко человека. В Разбойном не ладят, там на дыбе ломом каленым гладят. А ты, гляжу, не жалуешь его? Ведь правду молыть, дружбу с ним водил, а в ночь мою побеглую в хоромине его весело гостевал.
– То по службе было, – досадуя на себя за начатый разговор, чертыхнулся Елагин, передвигая глаза на Федора. – Ты пошто с ним, дьяче? Встречать ходил?
Федор надвинулся на сотника, вперился в него умными глазами.
– А позвали меня, – шепотом заговорил он. – Костромского купца причащать позвали. Плыл Волгой за барышом, да остался нагишом. Наши тати, новгородские, ограбили и пришибли. Дале поплыл упокойником. А батюшку Аввакума по дороге сюда встрел.
– И добро, что сошлись, а то одному-то бы мне смертка лютая, – вмешался протопоп. – Набрел на берегу на свору собачью, они там пропастинку каку-то делили – грызлись, а тут человек на них прет. Ох! И навалились. Оробел всяко, а тут Федор. Воистину – ангел спаситель.
Елагин поднял фонарь над головой, высветил их лица.
– Пропастинку? – Он недоверчиво прищурился. – Каку таку пропастинку?
– Да мало ли каку!.. Ты иди подступись к имя и глянь, – грубо посоветовал Федор. – Если не дожрали – сгадаешь, каку. Мы-то палками однимя обружились, от орды такой отсаживаясь, а у тя небось саблюха на брюхо навешана. Ею-то способней отмахиваться!
– Многовато их развелось в Нижнем! – Аввакум хмыкнул. – Чаю, вдосыть накормляешь их, Иван.
– Дык харчую поманеньку! – щурясь на протопопа, огрубил голос сотник. – Ну а далече отсель бились-то?
– Версты две, або три, – глядя через плечо в сторону смутно шевелящейся в темноте Волги, засомневался Аввакум. – По грязище такой как узнать? Ноги путами путает.
– Да уж. – Елагин почавкал сапогами. – Ужо утром схожу, гляну.
Он поправил в фонаре свечу, матюгнулся, поплевывая на укушенные огнём пальцы.
– Ну, отцы, делать неча, пошли ночевать. А ты-ы!! – Елагин поднес кулак к носу Луконе. – Не дрыхай, раззява!
Елагин двинулся к воротам. Проходя мимо Лукони, Аввакум, довольный, что так ловко да в лад с Федором втерли в уши сотнику опасную враку, шлепнул молодца по оттопыренному заду.