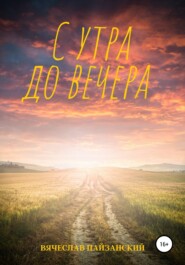 Полная версия
Полная версияС утра до вечера
Агрессия Италии против Эфиопии, как начало завоевательной политики фашиста Муссолини, и «демократический» реверанс перед ней западных держав.
Все это поощряло, зарождало будущую мировую бойню.
Советское государство, оставшееся изолированным, стало мишенью капитализма. На него указывали капиталистические руки зарвавшейся Германии, стараясь изо всех сил отвести от себя опасность гитлеровской агрессии.
А руководство Советского Союза перед лицом нарастающей угрозы войны продолжало свою, необъяснимую тогда борьбу с собственным народом. Оно одним махом уничтожило всю верхушку Красной Армии, убив тех, кто создавал армию, укреплял ее в боях гражданской войны и в последующие мирные дни. Оно казнило тысячи верных советских людей, превращало десятки тысяч в бессловесных рабов и довело страну до того, что уже нельзя было найти семью, в которой не было репрессированных. Оно страшно ослабило свою армию, оно вооружило против себя многие тысячи советских граждан.
Это также поощряло, зарождало, готовило будущую войну.
Правда, непосредственное столкновение, спровоцированное японскими милитаристами, чтобы на деле прощупать силу оружия и сопротивления СССР, показало, что не так просто выступать с оружием против единственного социалистического государства. Поражение на Холхин-Голе, в Монголии, несколько охладило пыл японских генералов, но не убедило капиталистов запада. Однако, у советских дальневосточных границ обосновалась японская квантунская армия, вооруженная до зубов и готовая к нападению.
Война, проносившаяся по Испании, в Эфиопии, по Китаю, заражала воздух Европы, в котором чувствовались пороховые взрывы, где совершенно открыто готовилось нападенье на нашу страну, с которой американцы, англичане и французы играли темную игру.
А в это время наш народ с удивительным легкомыслием воспитывался на лаврах непобедимости, на уверенности, что его армия имеет все необходимое для защиты и победы, которая будет коваться на полях агрессора.
Койранский все видел, все понимал, но вес Сталина, его всенародный авторитет, несмотря на репрессии, в которых обвинялись все, только не он, поддался общему психозу: он верил в Сталина, в его величие и внешнюю непогрешимую политическую стратегию.
И эта вера уживалась в нем, как и во многих других, с неуклонным скатыванием страны в огромный лагерь политических заключенных, где, по мнению многих миллионов, властвовало государство в государстве – НКВД, во главе с другом Сталина Берия.
Местные, районные и городские, отделы НКВД, как и следовало ожидать, держали себя властью над властью и поощряли подчиненную власть принимать чисто диктаторский характер.
Работа Койранского все более и более упиралась в такой характер местной власти, которой была ненавистна надзорная работа районной инспектуры народно-хозяйственного учета, мешавшая прятать концы плохой работы и показывать несуществующие успехи. Сначала его по-хорошему предупреждали не совать нос, куда не надо, потом откровенно заявили ему, что не станут больше терпеть деятельности, «враждебной» будто бы советской власти.
Койранский неоднократно жаловался своему московскому начальству на сложившуюся обстановку и просил перевести его на работу в Москву или в другой район Подмосковья, но всегда получал лишь похвалу: если не нравишься местной власти, значит, хорошо работаешь и вполне на месте, и можешь расчитывать на могучую поддержку областного и союзного центров.
Койранский верил этим обещаниям и продолжал свою добросовестную работу, пока в один прекрасный день его не вызвали в Москву, где тоже начальство, так поощрявшее его работу, заявило ему, что, вследствие требованья местного НКВД и других организаций, ему следует уйти с работы «по собственному желанию».
И Койранский был рад освободиться от неблагодарной и трудной работы, от лживого руководства, у которого слова расходятся с делом. Кроме того, он вовсе не желал опять попасть в объятья ведомства Берия, и с готовностью попросил его уволить.
Он почти не был без работы. Его хорошо знали в городе и в районе, и предложения работы сами приходили к нему, как только стало известно об его освобождении.
Он выбрал работу в Управленье канала Москва-Волга, так как это учрежденье было союзного подчинения и не было подотчетно ведомству Берия.
Он занял должность инженера-экономиста в отделе капитального строительства.
В выборе места работы Койранский не ошибся. Он выиграл материально и морально. Он стал работать в спокойной обстановке, в атмосфере благожелательства и добрых отношений как начальства, так и товарищей по работе. Рабочий день был строго нормированный, а круг работ четко и продуманно определен и никогда не нарушался.
Через шесть месяцев отдел капитального строительства был реорганизован в Строительную хозрасченую контору Управления канала.
На сколько там было хорошо работать, свидетельствовали и здоровье Койранского и большой досуг, давший возможность ему гораздо больше времени заниматься поэзией, писать крупные вещи. В этот период он написл роман в стихах «На берегах канала» и поэмы «Светлана Раева» и «Исповедь монаха».
Стихи, которыми Койранский мог гордиться, были наиболее совершенными из всего до сих пор созданного, как по содержанию, так и по форме. Большая часть их была лирического характера, но были с политическим содержанием, выражавшим тогдашнюю политическую настроенность Койранского. Много было написано в то время и сатирических стихов, высмеивавших как общечеловеческие пороки, так и отдельных лиц, занимавших ответственное положение в обществе и рвавшихся отличиться за счет других, главным образом маленьких людей.
Но это не были басни, которых Койранский тогда еще не писал и не пытался освоить этот жанр.
Из сказанного видно, что у Койранского было основание, чтобы не пугать Марусю, вновь написанные произведения хранить в несгораемом шкафу своего служебного кабинета, а дома – те, которые были написаны дома и известны Марусе.
В то время Койранским нужно было много денег, так как дети уже закончили среднюю школу и учились в московских вузах. Для добывания денег Койранский прежде всего использовал свою поэзию.
Стихи его охотно принимали и печатали всю осень и зиму 1938 года, но гонорар был так мал, что не мог дать необходимых сумм.
Пришлось обратиться к вечерним работам, которые Койранский принимал на себя на себя по договорам с другими службами и секторами Управления канала. К этим работам Койранский привлекал сослуживцев, так как, естественно, не мого выполнить один очень сложные и подчас кропотливые работы.
Другого выхода не было, но это очень не нравилось Марусе. Она стала по привычке ревновать мужа к кому-то неизвестному, предполагаемому, а потом и к конкретной женщине, экономисту, девушке, совсем не подходящей по возрасту Койранскому, к тому же уже невесте другого.
Эта ревность опять отравляла отношения и явно влияла на здоровье обоих. Койранский уже стерпелся, привык, да и поэзия для него была как бы громотводом, ослаблявшим внешние раздражения.
Маруся, наоборот, явно убивала себя своей постоянной безосновательной ревностью. В минуты отрезвления она признавалась мужу, что не может не ревновать его, так как знает, что он ее не любит и особенно за испорченную ему жизнь.
Никакие уговоры, никакие ссылки на возраст и уже прожитую совместную жизнь не помогали.
Когда в 1939 году началась 2-я мировая война и Финляндия, под влиянием англо-франко-германского капитала спровоцировала войну с Советским Союзом, тревоги Маруси увеличились до предела.
От ревности она переходила к отчаянию, что муж не сегодня-завтра, как командир запаса, может уйти на войну, после этих оплакиваний она вновь переходила к сцене ревности.
Эти двоякие переживания, связанные с огромной, но дикой, любовью к мужу, эта постоянная тревога в конце концов привела Марусю к гибели.
Койранский видел, что эта болезнь и ее тревога неизлечима.
Чтобы не обострять болезни жены, он или молчал, или уходил под разными предлогами, но как молчанье, так и уход еще сильнее раздражали Марусю. И он перестал реагировать на ее упреки и жалобы.
В последних числах января 1940 года болезнь Маруси настолько обострилась, что получила выражение в сердечных болевых приступах, и была вынуждена лечь в постель.
Врачи невнимательно отнеслись к жалобам Маруси на сильные боли в сердце, не приняли должных мер, не распознали вероятный инфаркт, и 8 февраля ее не стало.
Смерть жены тяжело подействовало на Койранского, тем более, что после похорон он остался один в четырех стенах. Раздумья, доходившие до галюцинации, жалость к погибшей, с которой хорошо ли худо ли прожита уже целая жизнь, отчаянье одинокой грусти, – все привело его к желанью забыться хоть на время. И вечерами Койранский заставлял себя забываться, вливая в себя поллитра, или около того, водки. И, если бы не сослуживцы, угадавшие состояние Койранского, неизвестно, как бы отразилась на его будущей жизни смерть жены.
Сослуживцы не оставляли Койранского до поздней ночи и создали такую обстановку, в которой нервы успокаивались, проходила подавленность, горе теряло постепенно остроту.
Но впервые в эти дни Койранский почувствовал себя стариком. И когда он уже относительно успокоился, он написал стихотворение «Злая судьбина», которое с тех пор напоминает ему о тех страшных днях.
ЗЛАЯ СУДЬБИНАНесла терпеливо ты долю суровую,Счастье свое, огонек, берегла,Но груз был велик, и ношу тяжелуюБольше тащить уж ты не смогла. Черная туча грозой надвигаласяВ буре и ливне тебя унесла!Теперь одному надо будет мне маяться:Ноша твоя ко мне перешла. Тяжесть двойная и грусть одинокаяТрудно больнее, как будто найти!Этот подарок судьбина жестокаяБросила мне на житейском пути! Это она мою долю коверкала,Злостью и горем в дороге ссоря,Счастьем дразнила, радостью тренькала,Вот она жизнь-балалайка моя!34. Великая Отечественная война
Тяжесть одиночества совпала с большими событиями в жизни нашей страны, отвлекавшими Койранского и как будто облегчавшими его переживания.
Закончилась победоносно финдляндская война. Но военная напряженность не проходила: все чего-то ждали, чего-то опасались, с недоверием посматривали на запад, где начавшаяся война не развертывалась по-настоящему, а развернувшись быстро закончилась разгромом союзников Польши и утверждением фашистского владычества на всей западной Европе.
Никто в стране не сомневался, что теперь-то война с германским фашизмом неотвратима, несмотря на заключенный с Гитлером договор о ненападении, лишь гадали, когда и как она начнется. Все думали по-разному.
И руководство страной, очевидно, также понимало международное положение и отношения СССР и Германии, их непрочность. Оно понимало временный характер договора и с начала 1941 года к секретной, но медленой, мобилизации.
Койранский дважды, по поручению Райвоенкомата, отвозил мобилизованных в другие города Подмосковья для формировавшихся там новых частей.
Однако, когда стукнул час войны, ожидавшейся всеми, война показалась неожиданной, нелепой и как будто вовсе не страшной: так все были уверены в нашей готовности, в нашей силе, в быстром разгроме врагов. 22 июня был день памяти Маруси, день ее рождения.
В Дмитрове собрались дети и племянники Койранского, кто был в Москве. Ожидали приезда Олега с женой из Коломны. А потом намеревались все отправиться на кладбище, на могилу Маруси.
Во время этого ожидания, как гром с неба, прозвучала по радио взволнованная речь Молотова, известившая народы СССР о нападении фашистов и о начавшихся боях на границе.
Теперь уже стало известно, что Правительство и Сталин знали точно день нападения фашисткой громады из донесений нашей разведки в Японии. И более чем странным кажется, что армия не была приготовлена к немедленному отпору. А тогда народ дивился этому и невольно общественное мнение искало виновников, предполагало измену. Только Сталина, олицетворявшего всю Партию, не коснулось ни в малейшей степени ни одно слово обвинения или подозрения народа: так он верил Партии и Сталину.
Когда-нибудь роль Сталина будет до конца раскрыта в этой неподготовлености к фашисткому удару, следствием которой были огромные жертвы и людские страдания, а также оккупация большой советской территории.
Койранский, как командир запаса, знал, что ему предстоит военная служба, фронт и был готов отправиться защищать Родину.
В его военном билете был вшит конверт с надписью на нем: «Вскрыть в первый день общей мобилизации».
Первым днем мобилизации был 23 июня. Он вскрыл конверт и нашел в нем предписание отправиться в Бресткую крепость, в распоряжение командира формирующейся там второочередной стрелковой дивизии для занятия должности начальника штаба полка. Проездного литера в конверте не оказалось, и Койранский рано утром первого дня мобилизации отправился за ним в Райвоенкомат.
Здесь ему сообщили, что из Москвы поступила телеграмма, предупреждающая, чтобы командный состав, назначенный в Брестскую крепость, не отправлять до особого распоряжения.
Койранский и еще несколько человек командиров запаса, также имевших мобилизационное назначение в Брест, ожидали в Райвоенкомате этого «особого распоряжения» до 22 часов, не дождались, и были отпущены по домам.
24-го в 4.30 Койранский получил срочный вызов из Райвоенкомата. Предполагая, что пришло разрешение отправиться в Брест, он попрощался с бывшей дома дочерью, взял вещевой мешок с походными пожитками и явился в Райвоенкомат.
Здесь он получил другое назначение, так как Москва подтвердила, что в Брест отправлять нельзя.
Его назначили начальником эшелона мобилизованных бойцов, отправляемых на фронт. Эшелон не был еще полностью отмобилизован. Второй день мобилизации должен был окончательно пополнить его необходимыми кадрами.
Мобилизованные в этот эшелон сосредотачивались в здании средней школы. Туда и отправился Койранский для приема людей, их организации и дальнейшего пополнения.
Предполагалось, что сопровождающий командно-политический состав будет полностью укомплектован 24-го, с тем, чтобы 25-го рано утром эшелон мог бы отбыть по назначению.
Картина, представившаяся Койранскому в средней школе, была не очень отрадна. Во дворе школы и в самом здании находилось уже не менее 1000 человек военнообязанных и столько же, если не больше, родственников, знакомых, словом, провожавших. Среди этой массы людей 60–70 % были пьяны. Здесь открыто распивалось вино, без перерыва притекавшее из магазинов.
Проводить какую бы то ни было работу среди мобилизованных было невозможно, так как трудно было добиться их построения и проверки по спискам.
То ли умышленно не была прекращена торговля вином в городе, то ли забыли ее прекратить, но это обстоятельство свидетельствовало о головотяпстве, о растерянности и еще о многом другом.
Снесясь по телефону с Райвоенкоматом, Койранский попросил прежде всего добиться от местной власти прекращенья продажи спиртных напитков.
Несмотря на это категорическое требование в этот день водка продавалась без всяких ограничений, и пьянка продолжалась весь день. В течение всего дня 24-го июня из Райвоенкомата поступали люди. В этом числе были и лица, предназначенные для сопровождения.
С их помощью все отмобилизованные к концу дня были разбиты на группы более или менее одинаковой численности. Во главе каждой группы был поставлен средний командир и политрук, которые из трезвого состава выделили младших командиров.
Так появилась первая, самая примитивная организация.
Для охраны порядка и установленной организации из коммунистов и комсомольцев, не поддавшихся пьянству, была сформирована команда, для которой со склада Райвоенкомата удалось получить 15 винтовок и 150 патронов к ним для половины состава команды, а также три револьвера «Наган» для начальника и комиссара эшелона и дежурного по эшелону командира.
Предполагалось, что часть команды будет постоянно дежурить, а часть отдыхать.
В пять часов утра этот первый отряд из жителей Дмитрова и Дмитровского района был погружен в вагоны и провожаемый родными, близкими и знакомыми, взрослыми и детьми, трезвыми и пьяными, под плач и завыванье жен, детей и матерей, под пенье одних и громкие хвастливые выкрики других, обещавших в десять дней «разутюжить» фашистов и вернуться победителями, двинулся к фронту на защиту социалистической Отчизны.
Только за час до отправления эшелона узнал Койранский пункт и часть назначения, а также маршрут движения.
Именно он узнал, что в распоряжение №-ской стрелковой дивизии, в город Таллин, Эстонской ССР, были отправлены 1660 человек, в 38 вагонах, по маршруту: Савелово-Калязин-Сонково-Бологое-Псков-Тарту.
Неопытность и неотработанность до конца мобилизационного плана сквозила во всем: в том, что отправляющемуся эшелону не придали санитарной части или хотя бы врача с санитаром; в том, что огромный состав, не сопровождаемый воздушным и наземным конвоем, мог легко стать жертвой фашистских истребителей; в том, что в пути следования на остановках производилась беспрепятственная торговля спиртными напитками; в том, что ни на одной станции, большой или малой, не было кубов или самоваров с холодным кипятком; в том, что питательные пункты ни на 3-й, ни на 4-й, ни на 5-й день мобилизации не были организованы и все телеграммы военным комендантам станций, где были положены по плану питательные пункты, оставались без исполнения. Эшелон питался собственным запасом мобилизованных и только отчасти станционными буфетами, трещавшими от атакующих солдатских масс, требовавших пищи и питья, так как запасы были не у всех и их не могло хватить надолго.
Все это граничило со злым умыслом орудующей внутри страны враждебной рукой – «пятой колонной».
В Савелове Койранский потребовал от военнного коменданта пополнения врачебным персоналом и добился появления в эшелоне в лице медсестры-девчушки, с огромной, не по росту и силам, санитарной сумкой: всего в ней довольно, только не было дезенфицирующих средств и бинтов (три маленьких бинтика, курьез!)
Зато тут же, несмотря на протесты, к эшелону были прицеплены еще семь вагонов с лошадьми, назначенными неизвестно куда и неизвестно кому. Эта неизвестность компенсировалась обещанием, что военный комендант одной из следующих станций получит телеграфное извещение и сообщит начальнику эшелона все необходимое.
И потащился на удовольствие врагам и на удивление специалистов и всех зхдравомыслящих людей эшелон в 45 вагонов во главе с выбивающимся из сил паровозом средней мощности.
На станции Бологое эшелон еще увеличили, прицепив в хвост состава второй паровоз, такой же малосильный, так как нашли, что это соответствует существующим правилам эксплуатации. Дело, конечно, пошло веселее, но эшелон стал еще большей мишенью для стрельбы пикирующих самолетов.
Примечательно еще и то, что между станциями Бологое и Псков остановки увеличились в несколько раз, что, по увереньям начальников станций, тоже соответствовало существующим расписаниям.
Заявления Койранского, что в военное время нельзя руководствоваться расписаниями мирного времени, что там, куда идет эшелон, решается, может быть судьбавойны и что необходимо поторопить движение эшелона на помощь фронту, ему очень хладнокровно разъясняли, что указаний вышестоящих властей об этом не было. Ни уговоры, ни просьбы, ни даже крик и угрозы Койранского не возымели действия, его просили не вмешиваться в их дела.
А скоро Койранский был буквально взбешен новым явлением, фактами, совсем не предусмотренными правилами железнодорожного движения, явно вредительскими: если днем состав весело мчался вперед по назначению, то ночью он почти без остановок продвигался обратно до утра, чтобы с утра опять мчаться вперед и простаивать по часу-полтора на остановках, по сущевствуюим «расписаниям».
Жалобы Койранского начальникам станций встречались пожатием плеч и утверждением, что таково было распоряжение из управления дороги.
Когда он кипятился и доказывал, что это вредительство, измена, на него смотрели, как на ненормального, а на его слова, как на бред сумасшедшего.
Между станциями Бологое и Псковом военных комендантов не было, а телеграф на железнодорожных станциях отказывался принимать телеграммы Койранского без шифра.
Пять дней болтался эшелон между этими узловыми станциями, не доходя до Пскова и не возвращаясь к Бологому.
Койранскому было ясно, что вражеская воля, какая-то пятая коллонна, не пускает пополнения сражающейся №-ской дивизии.
В довершение всего эшелон стали встречать и сопровождать фашистские воздушные разведчики, которые, конечно, не приминули привести и истребителей, обстреливавших поезд на бреющем полете.
К этому времени в эшелоне уже не стало пьяных: вина негде было купить, а если появлялась откуда-нибудь бутылка-другая, команда охраны, по инструкции начальника эшелона, безжалостно разбивала бутылку и содержимое выливала на землю.
Люди почувствовали опасность и ответственность, поднялась дисциплина, доверье к командирам оказалось на высоте.
И Койранскому с командным и политическим составом удалось обучить машинистов и весь личный состав эшелона правилам поведения при приближении фашистских стервятников: немедленно останавливать состав и быстро выбрасываться из вагонов, рассеиваться по обе стороны состава, устилая землю меж кустов, в канавах и лесочках.
Это уберегло от потерь в личном составе, только страдали вагоны, делавшиеся все ажурнее с каждым налетом.
По этой же причине днем и ночью на паровозах дежурили средний командир и 2–3 вооруженных бойца. Машинисту приходилось выполнять их указания при приближении самолетов врага.
Как следствие дежурства – поезд ночью не посмели возвращать обратно. При первой же попытке машинистам пригрозили расстрелом по закону военного времени, как за измену.
Стало понятно, что измена таится и на паровозах, солидарных с какими-то «стрелочниками».
Чтобы замести следы и скрыться, эшелон быстро дошел до Пскова, где паровозы были отцеплены и почти моментально угнаны, а через 2–3 часа, когда военная комендатура получила информацию Койранского, их уже не было во Пскове.
У Койранского не было ни времени, ни охоты заниматься этим делом, также, как и проверять коменданта, его действия.
Во Пскове уже чувствовалась близость фронта. Здесь Койранский увидел группу немецких диверсантов с самолетов сброшенных в районе Пскова и выловленных местным Истребительным батальоном. Группа состояла из двенадцати подростков, 15–17 лет.
Здесь он увидел первых пленных фашистов, наглых и заносчивых, несмотря на пленение.
Здесь по просьбе Койранского распоряжением военного коменданта были отцеплены вагоны с лошадьми, неизвестно куда следовавшие, а к паровозам, с двух сторон поезда, были прицеплены площадки с зенитными пулеметами при бойцах местной противовоздушной обороны. С наступлением темноты эшелон двинулся к старой границе и скоро пересек ее, продолжая путь по эстонской территории.
Ночь прошла спокойно. С утра появились было фашистские самолеты, но были отогнаны огнем зенитных пулеметов.
И в течение дня несколько раз повторялось тоже. Их налеты были неудачны. Тогда немцы переменили тактику: вместо истребителей, напрасно гонявшихся за эшелоном, были пущены в работу бомбардировщики, задачей которых было разрушение полотна железной дороги.
Гле-то впереди слышались разрывы бомб, но в течение суток путь оставался невредимым и свободным: воронки видны были вправо и влево от полотна дороги, в 30–50 метрах от него.
И только в одном месте, близь железнодорожной станции, были взорваны две шпалы и сделана небольшая воронка, как видно, от крупного осколка. Через два часа дорога была исправлена прибывшими со станции рабочими. И эшелон получил возможность двигаться дальше.
Ночью фашисткие истребители и бомбардировщики напали на поезд, но, кроме сбитой прямым попаданием небольшой бомбы трубы заднего паровоза, ущерба не причинили и потерь в людях не было. Только один из трусости на ходу поезда выбросился че-рез люк вагона как раз на мостике и разбился, конечно на смерть.
Через шесть часов, не доезжая станции Р., эшелону вновь пришлось остановиться, так как стояком стоявшие рельсы предупредили о взорванном пути. Действительно, оказалось, путь поврежден на протяжении больше километра.
На другой стороне поврежденного пути, на железнодорожной станции. Также стоял эшелон, шедший из Эстонии к Пскову.
Это были вагоны с арестованными генералами и офицерами эстонской армии, изменившими Родине, открывшими фронт фашистской армии.
Этот эшелон охранялся моряками Балтийского флота, которые сообщили, что не только Таллин, но и вся западная часть Эстонии уже занята врагом.
В виду этого обстоятельства, Койранский решил, не дожидаясь исправления пути, вернуться в Псков и отсюда снестись со штабом Ленинградского военного округа, на территории которого находился Псков. Во Пскове Койранским было получено приказание штаба округа отправиться до станции Луга и здесь высадиться для формирования.



