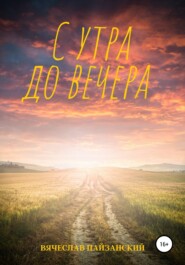 Полная версия
Полная версияС утра до вечера
Но и никто не мог ответить, что означают масовые аресты невиновных ни в чем людей, их ссылки и казни.
Были разные предположения. Большинство выражали уверенность, что Ягода, председатель ОГПУ, злоупотребляет властью и что Сталин ничего не знает.
В канун народного праздника годовщины основания Красной Армии, по инициативе старосты и еще некоторых активистов, в камере было проведено торжественное заседание, посвященное этому событию.
С докладом выступил бывший областной работник, видный партиец, К., при этом и перед и после собранья всеми заключенными вполголоса был исполнен Интернационал, партийный и государственный гимн. В наказанье за это на два дня был уменьшен паек хлеба на 50 грамм каждому жильцу 85-й камеры.
После собранья с воспоминаниями о событиях гражданской войны выступили многие заключенные, в том числе и Койранский, рассказавший о походе в Каракумские пески против Джунаид-хана, о пустыне, о песчанных бурях ее, о миражах, о чем почти все знали только понаслышке.
Этот вечер всем пришелся по душе, и с этого времени каждый вечер организовывались лекции и доклады. Так профессор Ш. до самой высылки читал лекции о происхождении мира.
В середине марта он был выслан в северные лагеря, получив 10 лет ссылки.
А в начале апреля был освобожден староста камеры, В. Л.
Как ликовала камера, узнав об этом освобождении!!
Койранского целый мксяц не вызывали на допрос. Казалось, о нем забыли.
Он уже стал привыкать к безделью и полусуточному спанью, к плоским камерным анекдотам, в которых большей частью вся соль сосредотачивалась на женщине, к систематическим обыскам, раньше так оскорблявших, к повествованьям «банной газеты» о ссылках и казнях, к ежедневным прогулкам, во время которых от арестованных других камер узнавали о политических новостях, о событиях за границей, где утверждался фашизм, и, в свою очередь, передавали другим все, что узнали от недавно прибывших с воли новых заключенных.
И вдруг однажды Койранский увидел среди гуляющих заключенных другой камеры следовател Р.
Ошибиться было невозможно: он был в том же гражданском пиджаке и в военных брюках, вправленных в хромовые сапоги.
Р., казалось, не узнавал Койранского. Но, повстречавшись еще, приложил палец ко рту и незаметно помахал им, дав этим понять, что они не должны не только разговаривать, но и узнавать друг друга.
После этой встречи Койранским снова завладели мысли об измене Сталина и других руководителей народу, о правде, высказанной ему Р., об обреченности заключенных и бесполезности жалоб и борьбы. Гнев, возмущение, все мысли, – все натянуло, возбудило до крайности нервную систему Койранского.
Несколько дней он чувствовал себя больным и не вставал с нар.
И в это время, уже в марте, его вызвали на допрос.
Седьмой, с начала ареста, следователь встретил его, как бандита:
«Ну, ты! Как стоишь! Что ты к жене пришел!»
Силы, оставившие было Койранского, вновь ожили в нем, вновь подняли дух сопротивления, борьбы.
«Щенок! Как ты смеешь так кричать на заключенного?!! Я не признаю в тебе не только следователя, даже человека не признаю! И разговаривать не буду!»
Койранский повернулся спиной к следователю и несколько минут так стоял.
В кабинете было тихо. Был ли следователь озадачен этим бурным сопротивлением или чрезвычайно разгневан им, только он молчал.
А потом Койранский неожиданно услыхал совсем другой голос и новый тон:
«Прошу вас сесть и выслушать меня. Я не знал, что вы такой обидчивый. Садитесь, пожалуйста!»
Койранский молча повернулся и сел на стоящий перед столом следователя стул.
Следователь вынул из ящика стола бумагу, на бланке которой было что-то напечатано пишущей машинкой.
«Вот возьмите, прочитайте и подпишите. Это – обвинительное заключение».
«Не буду ни читать, ни подписывать!» – ответил Койранский.
«Но без этого мы не можем закончить вашего дела».
«Ну, и не заканчивайте. Высылайте или расстреливайте без моего согласия».
Следователь в мягких выражениях стал упрашивать Койранского не капризничать, подчиниться закону, подписать, чтобы можно передать дело на рассмотрение «тройки».
Но Койранский упорно твердил:
«Никакого дела не существует. Все придумано вами. Не подпишу!»
Как ни старался следователь, не мог заставить Койранского читать обвинительное заключение. Наконец следователь вышел из себя:
«Черт с тобой! Заставим! Подпишешь!»
И позвонил. Вошедшему конвойному велел увести арестанта в камеру. Потянулись опять дни и носи, раздумья и сомненья, твердые выводы и колебания.
Одно лишь было несомненно для Койранского: он за собой вины не знает, а его хотят во что бы то ни стало обвинить, наказать, чтобы изьять из общества.
Надо бороться до конца, решил его воспаленный мозг.
Закончилась зима. Весна пришла вместе с теплым в тот год апрелем. Гулять ходили уже без пальто.
Опять о Койранском будто забыли.
Передачи с воли не только разнообразили тюремную баланду, состоявшую из воды и крупно нарезанных соленых огурцов, но укрепляли душу, приносили с собой дуновенье свободы и надежды, любви и сочувствия.
27 апреля, после обеда, вызвали на допрос. Койранский опять чувствовал себя сильным, способным к борьбе.
Тот же следователь и тот же кабинет, что и прошлый раз.
«Я вызвал вас в последний раз, чтобы убедить вас подписать обвинительное заключение», начал следователь.
«Не подпишу».
«Но вы же признали, что возглавляли контрреволюционную организацию».
«Никогда не признавал и никогда не признаю, так как этого не было!»
«Нет, вы забыли. Вот ваше показание».
С этими словами следователь поднял и показал издали чью-то писанину.
«Вы, вероятно, сами написали и подпись мою подделали. Я ни одной буквы не оставил вам в утешение».
«Однако, вы не блещете вежливостью. Что я, мошенник?!»
«Значит, мошенник, раз хотите выдать чью-то писанину и чью-то роспись за мою».
«Молчи, сукин сын! Или рожу расквашу!!» – не выдержал тона следователь.
Койранский, полуотвернувшись, молчал.
«Все о тебе знаем. Ты – матерый враг. Таких уничтожать надо. А тебя помиловать хотят, на работу отправить. Говорю же!»
«Если здесь есть матерый враг, то это – ты! Помни, народ не простит тебе и другим того, что вы делаете», спокойно сказал арестованный.
«Сволочь! Погоди же! Загоню туда, куда Макар телят не гонял!»
Койранский встал и отвернулся от следователя.
Конвоир отвел Койранского в камеру.
Когда он расказал о том, что было в кабинете следователя, соседи по нарам единодушно приговорили:
«Сегодня ночью вас отправят на этап. Попомните! И как раз по четвергам отправляется этап. А сегодня – среда».
И Койранский поверил. На душе стало смутно и тревожно.
Он долго не мог уснуть, не мог привыкнуть к мысли, что его, невиновного, могут осудить.
Наконец, уснул тяжелым, ежечасно прерываемым, сном.
И вдруг среди ночи он проснулся, немного полежал и услышал скрежет ключа в замке двери, особенно явственный при ночной тишине. Койранский насторожился. Сердце забилось сильно, с никогда неизведанной болью.
Вошел дежурный надзиратель и громко, на всю камеру, крикнул:
«Койранскому с вещами собираться! Через пять минут быть готовым!»
И ушел, захлопнув дверь.
Койранский встал. Его била лихорадка. Он стал собирать вещи. К нему подошли несколько человек, стали помогать.
Что-то говорили ему, о чем-то просили. Койранский не понимал. Его мозг не работал. Импульсивно он что-то делал. Потом сел на нары. Всем говорил:
«Хорошо, хорошо, все сделаю», но что нужно сделать и когда, он не понимал.
Когда опять пришел дежурный надзиратель, Койранский не сразу поднялся. Его подняли, обнимали, жали руки. Кто-то даже поцеловал. Надзиратель, наконец, потянул его за рукав пальто и вытолкнул из камеры.
Койранский машинально взглянул вдоль освещенными сильными лампами коридора. В конце его, у лестницы, стояла группа заключенных с вещами.
Потом пошли вниз. В коридоре каждого этажа присоединялось по несколько человек. Набралось всего 25–30, не больше.
Вышли на улицу. Вошли в «вокзал». Здесь заперли в небольшой комнате без всякой мебели и долго держали.
Неожиданно его окликнули по имени-отчеству. Койранский поднял голову, огляделся. К нему протискивался учитель Успенский. Да, Николай Васильевич Успенский, учивший четыре года дочку Нину, ее первый учитель.
Как радость хлынула к сердцу, как сразу заработал молчавший мозг! Прошел паралич, все стало понятным.
«Куда нас?» – задали друг другу вопрос земляки-дмитровчане.
И тут же оба ответили:
«В сссылку, конечно, куда же еще! Хорошо, что вместе!»
С этого времени они все время были вместе, держались друг друга.
Потом пришел красноармеец, опросивший, у кого есть деньги за тюремной администрацией?
(Заключенным не разрешалось иметь на руках деньги).
Когда опрос окончился, всю группу повели на улицу и ввели в баню. На этот раз вещи на дезинфекцию не взяли, только тщательно их обыскали, как и голых людей.
Вымылись за час. Оделись. Койранский немного затянул одеванье. Его торопил стоящий здесь с винтовкой солдатик-конвоир.
«Чего спешить? В ссылку нечего спешить», ответил ему Койранский.
«В какую ссылку? На волю выходите!» обжег он Койранского.
Что это, правда, или издевательство?
Койранский больше ничего не спрашивал, да и банный надзиратель уже пришел за ним.
Пошли опять в «вокзал». Поместили уже в другую комнату, но тоже без всякой мебели.
Стали выдавать деньги.
Койранский рассказал Успенскому, что ему сказал солдатик с винтовкой.
«Не может быть! Сейчас будут зачитывать приговоры «тройки», предположил Николай Васильевич.
Но никто не приходил с приговорами.
Томились здесь долго. Потом стали вызывать по-одному куда-то наверх. Вызванные не возвращались. Вдруг вбежал один за оставленными вещами.
«Ребята, на свободу идем! Честное слово! Вот удостоверение об освобождении!»
Но ему не дали показать удостоверение. Пришел военный и выпроводил вестника свободы.
Последними были вызваны Успенский и Койранский.
Когда Койранский вошел в комнату, куда его вызывали, он поразился: здесь сидел следовтель, обещавший накануне отправить его, «куда Макар телят не гонял».
Он, молча, подал Койранскому заготовленную уже подписку, что обязуется под страхом уголовного наказания в устной или письменной форме не разглашать того, что с ним было со дня ареста до минуты освобождения.
И на этой бумаге Койранский поставил свою первую подпись.
Как только он подписал указанное обязательство, ему выдали удостоверение об освобождении и деньги на билет до Дмитрова, так как у Койранского не было ни копейки.
«Можете быть свободным! – объявили ему, и он перешагнул через порог свободы.
На улице уже рассветало. У ворот тюрьмы Койранского ожидал Успенский и они вместе зашагали на вокзал, не веря в свое освобождение и в то же время убеждаясь в нем.
С большой рыжей бородой и с огромными усищами он производил, наверно, свирепый и далеко не приятный вид.
Но глаза его сияли радостью победы, его душу распирала эта радость и поневоле приковывала к себе внимание окружающих.
К сожаленью, этих окружающих было очень немного и на вокзале, и в вагоне поезда, так как это было раннее-раннее утро.
Но как оно было прекрасно, первое утро свободы, будто никогда в жизни не сияло оно так светло и радостно, так удивительно понятно. Твердо, уверенно оно говорило: это твоя победа над злыми силами, с которыми ты так долго и последовательно боролся.
И от этого радость освобождения была еще больше, она охватывала все существо Койранского.
И вдруг мозг и сердце прорезала неожиданная, быстрая, как молния, мысль: ты свободен, а в тюрьме остались твои товарищи, верные советские люди, которые, как и ты, жизнь готовы отдать за Родину, за партию, за него…Да, за Сталина, именем которого наполнили тюрьмы, лагеря и который ничего об этом не знает, которого обманывают, пылят в глаза славословием. А уверенья следователя Р.? Или он лгал, клеветал на Сталина, на Партию?
И сразу пропала радость, помрачнело утро, заглохло чувство свободы.
С соседом, Успенским, об этом ни слова. Надо пока молчать.
Поезд пришел в Дмитров, хорошо, что никого знакомых.
С Успенским распрощались на вокзале. Койранский пошел домой через сад, чтобы никого не встретить из знакомых. И, как нарочно, здесь встретил соседку по дому. Поздоровался, подтвердил, что освобожден. Скорей пошел дальше.
«Эта разнесет!» – подумал Койранский.
«А разве это плохо, разве это постыдно?!»
Он долго не отвечал на свой вопрос и уже у самого дома появилось тяжелое чувство и навязчивая мысль:
«Ты на свободе, а товарищи по камере в ссылку поедут. За что же ты отличен от них. Нет, ты не предавал их, но ты идешь домой, почему ты не с ними?» Тут он вспомнил, как он боролся, боролся упорно, страстно, не страшась ни кары, ни даже смерти. Он вспомнил, что всех настраивал на такую же борьбу, и тяжелое чувство самообвинения стало уступать место прежней радости, радости свободы, ощущенью прекрасного утра, близости свиданья с родными.
Постучался в дверь своей квартиры, никого. Стал сильней стучать. Услыхал шаги. Прислушался. Незнакомый женский голос спросил:
«Кто? Кого нужно?»
Потом он увидел глаза в щели открытой двери, удерживаемой цепочкой. Чужие, незнакомые, равнодушные глаза.
И вдруг снята цепочка, открылась дверь. Высокая молодая еврейка уверенно говорит:
«Вы – Койранский. Я узнала вас. Только вчера видела ваше фото. Из ваших никого нет дома: жена в Москве, повезла вам передачу, ведь сегодня четверг, а дети в школе».
Койранский вошел в квартиру, а она – за ним. Обогнала его, вошла в дальнюю комнату, которую они обычно называли кабинетом. И закрыла за собой дверь.
Потом опять вышла в сени, где Койранский раздевался, и доложила:
«Мы с мужем живем у вас по ордеру Жилотдела. Мой муж работает в Упралении строительства канала. Он тоже был заключенным, но уже отбыл свой срок. А вы освобождены? Это прямо чудо. Еще не было случаев. Оттуда обычно не возвращаются без срока».
Койранский не стал, ни разъяснять ей, ни выслушивать ее. Он извинился и ушел в спальню, расположенную отдельно от других комнат.
Он сидел, ни очем не думая, как в бесчувствии, сидел у стола, положив руки на стол, потом уронил на них голову и уснул.
Бессонная ночь, немотря на душевную приподнятость, и усталость от пережитого одолели.
Его разбудил шум в прихожей. В комнату вбежала дочь, 16-летняя дочь, а за ней вошел сын. Непривычный бородатый отец вызывал, наверно, и радость и жалость, и какое-то чувство боязни.
Перебивая друг друга, они стали рассказывать о домашних делах, об учебе, об уехавшей в Москву матери. И вдруг замолчали и отрывисто стали отвечать на его вопросы. Через час в комнату стремительно вошла жена, только что приехавшая из Москвы, не добившаяся ни в Бутырской тюрьме, ни на Лубянке, где муж; как ей говорили, такого нет и не принимали для него передачу.
Она с тяжелым чувством поехала обратно, всю дорогу думая об исчезновении Койранского, решив в душе, что он расстрелян.
И в том же саду, таже соседка, что встретила возвращающегося Койранского, поздравила Марусю с благополучным возвращением мужа. Она верила и не верила, бежала домой, как девчонка.
Рабость свидания и чувство домашней обстановки, рассказы жены и детей об их жизни без него и теплота родной семьи вытеснили из сознания Койранского беспокойные думы об оставленных в заключенье товарищах и какую-то виновность перед ними за свое освобождение.
А ночью, в кровати, он спросил жену, верила ли она в то, что он преступник, что изменил своему народу?
Маруся, не задумываясь, громко и, как ему показалось, сердито сказала:
«Ни одну секунду не сомневалась в твоей невиновности. И дети также. А ты разве в нас сомневался? Поговори завта с Олегом. Он тебе расскажет, как заступался за твою невиновность. И наши дети ему и мне верили».
Эта убежденность сразу успокоила Койранского, окончательно вычеркнула возможность непонимания в семье.
И он быстро уснул спокойным сном человека, авторитет которого не поколеблен трехмесячным заключением в тюрьме.
33. Последние мирные годы
Трудными были первые месяцы послетюремной жизни Койранского.
Быстро восстановившись на прежней работе, он, однако, долго чувствовал недоверие к себе, как со стороны московского начальства, так и в партийных кругах города.
И это особенно подчеркивалось, когда он пресекая незаконную отчетность или проверял сельскохозяйственные сводки. Своими частыми проверками он мешал делать приписки и «выравнивания» статистических цифр, к которым любили прибегать в то время.
Но до конфликтов в первое время не доходило. Лояльность с обеих сторон как бы сама собой разумелась, стала необходимой и обычной в отношениях местной власти и Койранского. Но он понимал, как не ко двору он приходится, как тяготились его надзором. А у своих сотрудников по работе, наоборот, Койранский нашел понимание и теплое сочувствие.
Тем не менее, развившаяся в заключеньи подозрительность долго мешала Койранскому наладить доверчивость и простоту отношений со знакомыми и бывшими раньше друзьями, отвернувшимися от семьи Койранского, когда он был арестован. Койранский знал и по-человечески понимал психологию этих людей, и сам первым шел на восстановлении прежних отношений и постепенно, очень медленно, восстанавливалось нарушенное арестом доверие, За очень небольшими исключениями, в конце концов, последствия заключенья стерлись в отношениях со всеми.
По просьбе Койранского ему была возвращена отобранная было комната и кой-кому даже влетело за это уплотнение.
К его удивлению, папка со стихами, хранившаяся в письменном столе его рабочего кабинета в Исполкоме, оказалась на месте.
Оказалось, что стола никто не вскрывал и никто не узнал о существовании ее. Когда Койранский рассказал об этом чуде жене, она настояла, чтобы он принес стихи домой, а потом, напуганная уже достаточно, упросила его сжечь некоторые, казавшиеся ей не совсем подходящими к переживаемому времени.
Койранский долго сопротивлялся, но, под нажимом женской мольбы и слез, уступил. Он бросил в огонь всю папку целиком.
Скребло на душе у Койранского это новое преступление против самого себя, однако отношенья с женой, наладившиеся и ставшие сердечными, ему казались важнее.
Но писать он не бросил. Это не было систематическим занятьем, но было серъезным и значительным для него и пустяком для жены.
Жена читала его произведения, написанные дома, как бы случайно, и снисходительно одобряла или порицала написанное. Она знала, что стихи хранились в книжном шкафу свертком, в газете.
Вскоре после приезда из тюрьмы Койранский стал прихваривать, при этом болезнь сначала проявлялась в самых неожиданных местах: в затылке, в плечах, в локтях, в грудной клетке, но была локальной. По отзывам врачей это были боли нервных сопряжений, результат тюремных переживаний, и должны исчезнуть сами собой.
Так прошел год, и боли, действительно, прекратились без вмешательства лекарственных снадобий.
Но вместо этих рассеяных болей начались боли желудка, особенно после приема пищи. Боли учащались и в конце концов стали трудновыносимыми.
Ни обследования желудочного сока, ни рентген желудка, пищевода и кишечника ничего не дали.
Врачи терялись в догадках. И только через год поставили диагноз: невроз желудка. Его направили в нервный санаторий в Геленджике, на кавказском берегу Черного моря. Только один месяц леченья в санатории в июне 1934 года, и с болезнью было покончено.
Вообще, это был год «везенья». Его отношения с женой были прекрасными. По службе его отдел занимал первое место в области, за что к нему была прикреплена личная автомашина «Газ – А-69, взаимоотношения с районными властями «утряслись», стали уважительными и даже хорошими.
А страшное былое нет-нет, да и всплывет в воспоминаниях Койранского: переполненная тюрьма, массовые ссылки, расстрелы, да продолжающиеся аресты знатных и незнатных позавчера, вчера, сегодня, да стон людей, стон подпольный в оглядках и в страхе, да ожесточенность властей и партийных организаций, да ползучая всепожирающая, над всем господствующая подозрительность: брат перестал верить брату, отец – сыну, друг – другу.
Над страной повис бироновский призрак 18 века «Слово и дело», число самоубийств, особенно среди членов партии, катастрофически возросло.
Душе Койранского не было покоя. Он по-прежнему колебался: что это? Проявление дикой неумной противонародной диктатуры или до которого не доходят стоны народные, упивающееся собственным «я» и только им живущее, не видящее, как мерзавцы хотят превратить свободный народ в раба.
Кроме жены, ни с кем нельзя поделиться своими мыслями, жена же избегает этих разговоров, она боится «вредных мыслей» мужа, заклинает ради детей не думать об этом.
И Койранский старается не думать. Он целиком погружается в работу, производит ряд переписей и ведет самостоятельную разработку для местных нужд, привлекает к работам часть своих сотрудников.
В это время его заместителем по работе была опытный статистик, С. Н. Дьякова, жена местного прокурора. Она согласилась участвовать в дополнительных работах, которые производились вечерами и часто затягивались до поздней ночи. И, естественно, Койранскому приходилось провожать Дьякову до ее дома в эти поздние часы.
От жены Койранский не скрывал этого и Дьякова сама не скрывала этого, довольно часто бывая у Койранских, когда ее начальник прихварывал или в других необходимых случаях.
И вдруг в Марусе выросли подозрения, вдруг она начала обвинять мужа в «шашнях» с Дьяковой. Конечно, эта новая ревность не сама пришла. Это «доброжелатели» «науськивали» Марусю, сплетничали, наращивая подозрительность в душе, и без того склонной к подозрениям и ревности.
На этот раз Маруся дошла «до белого каления». Она стала искать С Дьяковой встреч на улицах и устраивать громкие скандалы, привлекавшие любителей подобных сенсаций, она устраивала налеты во время вечерних работ в учреждении, она сопровождала издали мужа, когда он провожал свою сотрудницу в позднее время.
Не заметив ничего подозрительного или компрометирующего, Маруся, однако, «точила» мужа, изводила его, доводила до бешенства.
Ни уговоры и убеждения, ни просьбы и даже мольбы не помогали.
Отношенья Койранских так обострились, что, вероятно, пришли бы к разрыву.
Койранский прекратил ночные работы, освободив сотрудников, в том числе и Дьякову, от вечерних посещений учреждения, – не помогло. Койранский пробовал уйти с работы, перейти на другую, ему ответили отказом, так как предстояла всесоюзная перепись населения, к которой надо было повести большую подготовительную работу.
А Маруся требовала своего: уволить с работы Дьякову.
Уволить без причины жену прокурора? Это бы не удалось, только вызвало бы новые трудности и недоразумения.
Да и нужно ли было поощрять безосновательную ревность, о которой уже знали все соседи, полгорода, над которой смеялись и с интересом ожидали семейной катастрофы?
Но катастрофы не произошло. Мужа Дьяковой перевели в союзную прокуратуру, и они уехали в Москву.
Сперва Маруся будто успокоилась и Койранский был доволен. Наконец он получил душевный покой. Казалось, семейная жизнь опять должна наладиться, войти в спокойное русло. Но скоро опять нашлись предлоги для ревности, опять жизнь стала трудной и иногда превращалась в сущий ад. Нервы супругов были взвинчены до крайности, и не было средства для нормализации отношений.
Пробовал Койранский бывать больше дома, – ссоры и попреки не давали возможности отдыхать, читать или заниматься с ребятами. Пробовал меньше бывать дома, оставаться в своем учреждении, занимаясь поэзией или трудясь над экономической работой, – было еще хуже: дома его встречали насмешками, подозрениями, упреками. Это было время какого-то безумия!
И в мире творилось безумие.
Гитлеровский режим в Германии, с его откровенно воинственной программой, провозглашавший «пушки вместо масла», отзывался во всех государствах, особенно европейских, катаклизмом военных приготовлений.
Еще войны не было, но уже пробовались силы сторон.
И все же западно-европейский капитал явно боялся войны. Он старался умилостивить бога войны, Гитлера, делал ему уступку за уступкой. Испанская революция и организация нападения на нее фашистских сил, отпор, организованный коммунистами и другими прогрессивными силами и измена «демократии» капитала – неучастие их в отражении фашистской атаки.
Японское разбойничье нападение на Китай и молчаливое согласие с ним США, Англии и Франции.



