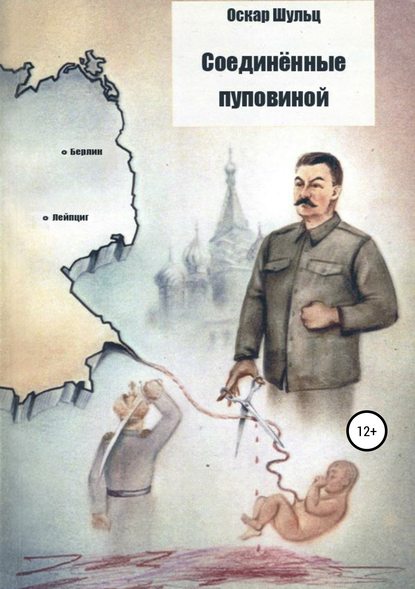 Полная версия
Полная версияСоединённые пуповиной
Охранник пару раз щёлкнул замком ружья, толкнул меня им в спину, обошёл, посмотрел в лицо, сердито выругался “трёхэтажным” матом, и заключил: “Я не буду брать на себя этот грех. Либо ты, проклятый Фриц, на четвереньках доползёшь до лагеря, если хочешь выжить, либо сдохнешь здесь один!” Он выстрелил в воздух, и бросился вслед колонне.
Когда я снова пришёл в сознание и оправился от шока, я понял, как близко я был к тому свету. В непроглядной темноте, спотыкаясь, я пришёл к лагерю. Охранник открыл мне ворота и, усмехнувшись, спросил: “Ну, штаны уже просохли?” – вероятно, конвоир ему всё рассказал.
Я всю ночь ворочался на своей лежанке, которую застелил пихтовыми и еловыми ветками, и не мог переключить свои мысли с того, что со мной произошло. Разве было не так, как описано в книге «Расстрелян при попытке побега»? Сегодняшние властители – будь то Германия или СССР, называют себя личностями, и поэтому будут увековечены в истории. Разница лишь в том, что фашисты хотят достичь этой цели уничтожением всех коммунистов любой национальности, а здесь коммунисты хотят достичь своих целей, истребив всех советских немцев. Какая насмешка над человеческим достоинством! Кто и когда сорвёт маску с лиц наших “господ”?
На следующий день я пошёл в амбулаторию, и рассказал о том, что пришлось пережить. Врач Кливерт сказал мне, что я не должен выходить на работу. Есть правило, что выходящие из больницы продолжают амбулаторное лечение до тех пор, пока врач не выписывает больного на работу. Я мог продолжить своё лечение в бараке.
Когда врач, в конце концов, выписал меня на работу, я снова вернулся в карьер. Но и в этот раз уже на следующий день я попал в амбулаторию. Так повторялось несколько раз, пока под конец меня не передали начальнику первой зоны. Товарищ Дмитренко сказал мне: “Не хочешь работать в карьере? Тогда не надейся получать высокую норму питания. Просто медленнее, чем там, будешь подыхать снаружи”. Вскоре я ощутил эту угрозу. Меня поставили кипятить воду и норму хлеба урезали с 1000 до 500 гр в день.
Ирония, насмешка, растаптывание в грязи человеческого достоинства. Меня, 52-летнего больного человека, учителя с высшим образованием, затолкали в грязную дыру как единственный способ временно сохранить жизнь. Моя смена длилась 12 часов. Нужно было наполнить водой 2 котла, каждый по 25 вёдер, принести дров, распилить ручной пилой, наколоть, а после вскипятить и раздать воду. И так каждые 3 часа, 4 раза повторять. Мне постоянно приходилось болтаться между тёплым помещением и улицей, с ветром и холодом до 45° мороза. Вероятно, это стало основной причиной моего заражения смертельно опасной болезнью.
Напряжённая работа, недостаточное питание, непривычное, бесчеловечное обращение, довели меня до края могилы. И всё шло к этому, если бы не вера в Божью помощь и вмешательство моей дорогой супруги, которая вырвала меня из унылого состояния и ужасающей нищеты. Ольга прислала мне деньги и посылку с продуктами.
Письмо от Ольги:
16 января, 1944 г.
Дорогой Эдуард!
Я получила твою просьбу о помощи. Постараюсь сделать всё, что только в моих силах. Я была в отчаянии. Только из кратких строк твоих товарищей по несчастью я могла немного узнать о твоей жизни. Вчера мы, наконец, получили от тебя одновременно 5 писем, написанных с октября по декабрь. Мне кажется, что ты приближаешься к состоянию, в котором был наш дорогой Курт, когда писал своё последнее письмо. Я вижу твой жуткий страх и уныние, но верю, мы сможем собрать посылку. Ты знаешь, что у нас нет никаких запасов, но они есть у некоторых местных жителей, я постараюсь заработать у них своим шитьём.
Я работаю уборщицей в школе, но не из-за зарплаты 40 рублей в месяц, а из-за хлебных карточек. Мы получаем 500 гр хлеба на меня и 200 гр на Хильду. Этого хватает, чтобы оставаться на ногах, а если я на ногах, то мы можем бороться за выживание: работать, искать, выдумывать, снова работать и занимать. Позже мне придётся всё возвращать в двойном размере, поэтому мы снова и снова пытаемся “дважды натянуть кожу за уши”. Но это единственный способ что-то дополнительно заработать.
Хорошо хоть, что наш младший и теперь единственный сын обходится без нашей помощи. Только мне непонятно, как этот мальчик справляется с одной здоровой рукой? Непостижимо! Ещё меньше я могу понять то, что наши письма нужно отправлять не Оскару, а Ашату Гильпцову. Он это не объясняет. Что там с ним происходит? Определённо, он не в кутузке, но и не в трудовом лагере Маката. Он пишет из Доссора о сносной жизни. Таким образом, мы можем всю свою помощь полностью посвятить тебе. Мальчик надеется вскоре вернуться домой. Об этом мечтаем все мы, не только он. Сегодня его 17-й день рожденья. Уже второй год он вынужден самостоятельно вести тяжёлую борьбу за выживание. Господи, помоги ему!
Несмотря на свою нужду, Фрида прислала 250 рублей, я их немедленно перевожу тебе. У её Эльзочки всё хорошо, но Алекса всё больше парализует.
Младшая тоже пытается быть взрослой в свои 11 лет: учится хорошо, усердно помогает мне в домашней работе. Говорят о скорой мобилизации оставшихся женщин в возрасте до 50 лет. Тогда у меня не останется никаких шансов. Поэтому я договорилась с Идой и Готтлибом Ау, чтобы они забрали Хильду к себе до тех пор, пока кто-нибудь из нас не вернётся. Я не хочу, чтобы она пропала в детском доме. Если меня заберут, твоя ситуация резко ухудшится, потому что тебе придётся рассчитывать только на себя и, возможно, на некоторую помощь от Фриды. Ей и так не сладко, но она постарается сделать всё, что сможет.
Слава Богу! Он сделал так, что Ольга смогла остаться дома. Да, я точно знал, что они обе голодают. Но всё-таки я не мог отказаться от их помощи. Первоначально возникшее чувство, что я умру в трудармии, постепенно исчезло. Я хотел жить. Снова и снова я просил, как и наш Курт в свои последние дни мая 1943 г.: пожалуйста, пришлите посылку. Пожалуйста, жира, муки, крупы, табака (последний – для продажи). В моём окостеневшем, больном сознании царствовали лишь 2 мысли: эгоистичная – я хочу выжить, и оправдывающая – Ольга не под охраной, как я, она что-нибудь достанет для меня.
Наш лагерь был не единственный в окрестностях города Карпинска. Люди предполагали, что их около 20. То есть здесь за колючей проволокой было около 100 тысяч советских немцев. Из писем, которые я раньше получал от родственников в трудармии, выходило, что в Киров-лаге находится 19 тысяч, в Бакал-лаге 120 тысяч, в Гурьев-лаге 40 тысяч немецких мужчин и в Сарапул-лаге около 80 тысяч немецких женщин. Сколько ещё лагерей, куда согнали умирать наших соотечественников в больших количествах на небольших участках?
Когда я был ещё дома, то пытался успокоить родственников, сообщавших мне из трудармии о жестоком обращении, грубости, ужасающих зверствах и варварстве. Эти перекосы могли быть только временными мерами правительства, или, возможно, вызваны отступлением от правил недостаточно информированных отдельных органов управления. Но теперь я видел голую правду, почувствовав её на собственной шкуре. Это было похоже на ересь, санкционированную сверху, потому что все законы были отодвинуты в сторону, и трудармейцы полностью зависели от произвола лагерного начальства.
Самые искренние и крепкие юноши, убеждённые, что их труд будет способствовать победе над врагом, превратились в течение 3–4 месяцев в оборванных, ободранных, шатающихся призраков, в отчаянии желающих услышать ответ на единственный животрепещущий вопрос: “Как можно голодной смертью бороться с агрессором, или таким образом каждый должен доказать свою лояльность государству?”
О немецком языке не могло быть и речи. Письма должны быть написаны только на русском, иначе они оставались в канцелярии, не пройдя цензуру. В устных инструкциях учреждения, в русской обиходной речи не было ни одного предложения без матерных слов. Это было ужасно. Как будто не существовало лирической поэзии Пушкина, Лермонтова, серьёзных размышлений Достоевского, Толстого и других русских классиков! Как будто не существовало порядочного языка. Только бляди, богоматери и т. п. Для меня это было двойным оскорблением. Во-первых, они проклинали всё, что для нормального человека должно быть святым. Во-вторых, было непонятно, куда делись усилия мои и других учителей? Мы, педагоги, не учили их этим оскорблениям!
Начальство, от самого верха и до поваров, было русским. Но встречались и некоторые руководители рабочих групп из заключённых немцев, часто проявлявшие свою тёмную сторону, иногда в своей бесчеловечности переплёвывающие предыдущих. Они не стеснялись поднимать руку на тех, кто был слабее. За возражения и оговорки, любую мелочь, наказывали различными ограничениями. Чаще всего, уменьшением дневного рациона.
Средства к существованию трудармейцев, как и всех работающих в Советском Союзе, были связаны с системой снабжения хлебными карточками – по ним также получали установленную норму жира, мяса, сахара, соли, чая, табака и текстиля. Но эти карточки оставались в руках ведомства, которое само распределяло продукты питания и товары. Таким образом, за 9 месяцев я получил, кроме ежедневных 500 гр хлеба, 1 раз 60 гр сахара, 2 раза табак и 2 раза 100 гр мыла. И так большинство.
С заработной платой выглядело аналогично. В среднем, в месяц мне начисляли 200 рублей. После удержания военного займа и налога, вычета за хлеб и баланду, в моём распоряжении оставалось 69 рублей. За эти деньги я мог дополнительно купить полкило хлеба. Одним словом, всё шло вопреки социалистической установке “Работа по возможности, оплата по труду”. Все трудармейцы трудились до саморазрушения, потому что заработок и еда не покрывали и половины необходимой физической энергии.
Эти обстоятельства не только меня сталкивали в яму. Уже через 3 месяца, когда в январе начались сильные морозы, утром на нарах оставалось лежать 2–3 человека. Во 2-й зоне, где люди находились уже долгое время, этот показатель был ещё выше. Я видел трупы умерших, сваленные в несколько слоёв, которые из-за промёрзшей земли остались без захоронения до весны. Не было никакого богослужения, молитв, встреч, траурных речей, не было и торжественных красных похорон. Каждый раз я молился перед сном: “Господь и Отец, прости умершим их грехи. Они, невинные, пришли к Тебе в мучениях, и за Твоё прощение поплатились жизнью. Возьми их души к Себе!” Ох, ох! Невозможно высказать и описать, какие несправедливости применяли не только к выжившим, но и к умершим.
Нужда ломает железо, нужда не знает никаких законов, но нужда же и учит молиться. И я молился перед сном, просыпаясь, когда пилил дрова, носил воду и топил печь! Я постоянно и много размышлял. За прошедшие годы я всё дальше отклонялся от истины, это тяжёлое испытание заставило меня углубиться в себя и обдумать свои поступки. У меня не было Библии, но меня спасло то, что в своей юности я выучил наизусть много Библейских текстов и песен, а позже, в зрелые годы, серьёзно изучал Библию.
И тогда я пересмотрел свою жизнь, свои дела и решения, воспитание детей, мою жизнь – как главы дома и семейства, и нашёл, что с моей стороны я виновен в больших упущениях. И тогда я повернул назад и дал клятву. Если наш Бог и Спаситель Иисус Христос изменит мою судьбу и приведёт меня к родным, я все свои силы, знания и возможности направлю на то, чтобы побудить мою семью к серьёзному изучению Библии, Священного Писания и познанию Истины.
Молитва и песня стали для меня делом чрезвычайной необходимости. Я выдержал очень тяжёлые дни, недели и месяцы, был доведён до края могилы, но Бог не оставил меня во всех моих делах, он сделал так, что наступил конец всем моим искушениям, и я смог всё пережить.
Войне всё ещё не было конца. Красная Армия перешла в наступление от Чёрного моря на юге до Смоленска на севере. Агрессора оттеснили обратно к границе. Только бы всё это шло побыстрее. Союзники всё ещё проявляли нерешительность. Почему, собственно, они колеблются? Кого они ждут? Надеюсь, немецкий народ насытится своим Фюрером и пошлёт его к чёрту, тогда можно будет ожидать конца войны.
Но даже летом 1944 г. колючую проволоку не убрали. Нет! Снабжение тоже не улучшилось. С другой стороны, обращение стало ещё более жестоким и бесчеловечным, охрану ужесточили. Всё больше и больше отчаянных юношей играли своей жизнью: или медленно умирать в лагере, или попытаться бежать в бесконечную, неизвестную, таинственную чужую тайгу. Между тем, при попытке оставить карьер или колонну, возникал реальный риск быть расстрелянным охраной.
С пониманием того, что их жизнь, тем или иным образом, безжалостно идёт к концу, в людях испарялся сопутствовавший им первоначальный патриотический энтузиазм. Незаслуженное отталкивающее обращение полностью выжгло из их сознания понятие “умереть за социалистическую родину”. Те, кого ловили, на суде открыто заявляли: “Я хочу, чтобы со мной обращались, как с человеком, и за это я готов умереть. Но я не хочу умирать как презренная тварь. Я знаю, что по закону вы осудите меня на 10 лет. Для меня – справедливо! Таким образом, вы сделаете из меня – сегодняшнего раба – заключённого с правами человека, а это я уже переживу!”
Я уже и раньше нечто подобное слышал от детей. Песню «Широка страна моя родная» они так интерпретировали: “Ох и зла ты, мачеха родная”. Строки: “Молодым дороги все открыты… старикам везде у нас почёт”, они пели как: “Мы последуем в общую могилу, прямо за уважаемыми стариками”. И это была горькая правда.
И эти пойманные юноши, обвинённые в дезертирстве, получали свои 10 лет тюрьмы. Будут ли их смелость и надежды оправданы? Покажет время. На самом деле, их заявления были для меня откровением, я даже боялся, что их осудят не за побег, а как политических преступников, по 58 статье. Кроме того, такие суды проходили за закрытыми дверями. Трудармейцам перед маршем на работу объявляли, что вчера снова приговорили нескольких парней к 10-ти годам и отправили на Колыму.
Только одно новшество было введено: умирающих больных выпускали и отправляли домой. Я догадывался, что многие из таких освобождённых так никогда и не достигли своих семей, как это случилось с кузеном Эмилем в 1943 г. Большинство из них были неизлечимы, их наудачу посылали в никуда, чтобы исчезли по дороге. Таким образом пытались сократить количество смертей в самом лагере.
Зимой я несколько раз попадал в больницу. В основном я мучился от кашля и астмы. 29 мая меня вызвали в штаб. Комиссия, в том числе и врачи, изучали моё дело. Мой вес был 50 кг при росте 184 см. Я сам испугался, потому что всегда весил 75 кг. Врач напрасно пытался собрать складкой кожу на моих рёбрах. Другой порылся в моих медицинских выписках. Потом упали слова: недоедание, старость (в 52 года?), возможно ещё и тбц (туберкулёз), а затем последовали долгожданные мелодичные слова: “списать” (освободить).
Наконец, 13 июня наступил счастливейший день – я залез в вагон, который должен был вывезти меня из этого ада. Зло преследовало меня и здесь: 2 раза в дороге меня ограбили, я потерял очки, а на расстоянии 500 км от дома отстал от поезда. Мои последние вещи остались в вагоне. С пустыми руками, без шапки, костюма и пальто, вечером 23 июня я вылез голодный из поезда, голый по жизни. Я готов был упасть на колени и целовать землю. Три года и 1 день прошёл с начала проклятой войны, и я мог констатировать, что всё ещё жив!
От станции Байсерке потащил я свои ноги к дому. Вначале родные меня совсем не признали из-за длинной бороды и запавших глаз. И я совершенно не знаю, как прошла встреча, потому что надолго потерял сознание, как только вошёл в дом. После всего пережитого было больше горьких слёз, чем радостных.
После того, как меня помыли в корыте, я лёг в кровать. Только потом я получил стакан молока и спокойно уснул. 10 дней я провёл в необычно мягкой постели, подчиняясь Ольгиному курсу лечения. Час от часу, изо дня в день, я получал всё больше еды, исчезнувшие силы и сознание постепенно восстанавливались в моём иссохшем теле и душе.
Да, слава Богу! Я, как “счастливый неудачник”, достиг родных, жены и ребёнка. Можно сказать, нахожусь у себя дома. Моё незаслуженное ярмо – груз, возложенный на невиновного, остался в Карпинске. Я вернулся снова свободным! Но, к сожалению, моё сердце уже никогда не будет таким несдержанным, весёлым и счастливым, как до войны. Оно получило за свою жизнь так много несчастья, несправедливости и страданий, что уже никогда не восстановится. С другой стороны, у меня были основания дальше оплакивать свои неудачи, потому что навсегда пропали все мои вещи, в том числе и записи, которые я вёл в дневнике в трудармии.
В последние дни моего лечения меня охватило неприятное, тревожное чувство вины. Я понял, что в доме вообще нет никаких запасов пищи. Правда, теперь уже огород даёт кое-что на стол: салат, редис, огурцы, зелёный лук, репу. Но не хватало хлеба, жира, мяса и прочего. И моя Ольга постоянно, как трудолюбивая пчела, сновала в поисках еды. Она обменивалась с соседями, селянами вокруг, и делала так, что у меня всегда было что-нибудь поесть на столе. Её единственный козырь – за оказанную помощь она рассчитается шитьём.
А потом мною овладела мысль, как тяжело пришлось моей супруге оказывать мне такую большую поддержку последние 4 месяца в её отчаянном положении. Я получил от неё посылками: 4 кг муки, 1.8 кг масла, 1.2 кг сала, 58 стаканов табака и, кроме того, 1500 рублей. Теперь мне было стыдно, что я своими постоянными криками о помощи её непроизвольно унижал, ибо в доме действительно совсем не было никакой еды. С другой стороны, она мне, с Божьей помощью, жизнь спасла своей жертвенностью. Моя благодарность безгранична. И эту благодарность, как и чувство вины, я хочу и буду нести в своём сердце до конца моей жизни.
На мой вопрос, что побудило её на эту невероятно напряжённую деятельность, откуда она черпает мужество и силы, Ольга ответила: “Я бы не пережила второй раз чувство вины, если бы не сделала всё, что в человеческих силах, чтобы спасти тебя. Наш Курт умер голодной смертью. Мысли, что я как мать, быть может, не всё сделала, чтобы сохранить его жизнь, и, возможно, не нашла все пути, чтобы своевременно оказать ему неотложную помощь, постоянно сверлят мой мозг и сердце. И если бы ты последовал за ним, почему я тогда должна жить? И поэтому главной целью моего существования стало одно: всё для тебя! А затем вернулся наш единственный сын. Оскар поддержал мою жизненную установку и принёс новые надежды на твоё возможное возвращение. И видишь, вместе нам это удалось!”
Теперь осталось только сдержать мою клятву. В свою очередь, это включает в себя стойкость, серьёзность, прочность и Божье благословение!
28 августа 1944 г.
Сегодня день памяти изгнания немцев Поволжья и, следовательно, вероятной кончины немецкой самобытности в Советском Союзе.
За 2 месяца я порядком выздоровел, как умственно, так и физически. Но боль в груди и сухой кашель до сих пор не прошли, ноги тоже всё ещё опухшие. Как только встану на ноги, поеду в Алма-Ату, пусть врачи обследуют меня по поводу туберкулёза. Если диагноз подтвердится, это будет означать мой печальный конец.
Недавно директор пригласил меня в школу. Хочу ли я иметь работу? Волей-неволей, но я должен, потому что только так я могу получить продуктовую карточку на 500 гр хлеба. Так, с начала августа, меня снова приняли учителем немецкого и русского языков на 18 часов в неделю. Смогу ли я столько выдержать в начале работы?
Из газеты: 20 июля на Гитлера совершено покушение! Стало быть, и в Германии есть трезвомыслящие антифашисты, сочувствующие, и понимающие наконец, куда идёт страна. Жаль, что этот план провалился. Многим это будет стоить головы. Это также означает, что война и дальше будет требовать жертв, а политика истребления советских немцев будет продолжаться. Всё ещё никакого проблеска надежды! Но Красная Армия активно движется вперёд. Население Восточной Пруссии и Силезии в панике. Можно представить себе, как сильно сейчас боятся простые люди ответной мести.
Мои попытки духовно сблизиться с нашим сыном, поговорить с ним о святом, терпели неудачу ещё до того, как я начинал разговор. Мальчика не узнать, он не тот, кого я почти 2 года назад проводил в трудармию. Я думаю, это последствия мучительных переживаний – ему пришлось в 15 лет увидеть обратную сторону медали и узнать жёсткую, безжалостную реальность. Он вынужден был самостоятельно принимать жизненно важные решения, ему приходилось смотреть в глаза смерти. Он был раздавлен катком войны и сумел остаться в живых, узнав, таким образом, цену жизни. Так что в 17 лет он стал опытным человеком.
Он поступал так же, как те ребята в Карпинске. Мы, старые люди, обременены жизненным опытом, цепляемся за жизнь, чтобы в ней остаться, и боимся смерти. Они же, напротив, говорят: “Лучше умереть, чем так не по-человечески жить”. Они не хотят просто существовать. Они осмеливаются на шаги, поднимающие их над страхом. И некоторые побеждают!
Из его рассказов следовало, что ему с другом с третьей попытки удалось покинуть Макат. Они бежали и смогли проникнуть на нефтеразведку как татарские дети, в качестве рабочей силы на бурение. Там, вдали от цивилизации, в пустынной степи, он мог, как свободный рабочий, под чужим именем, в безопасности, оставаться до конца войны. Но он выбрал путь к семье, где снова стал немцем. Поэтому позаботился о нужных документах, чтобы без помех добраться до Алма-Аты. Здесь навсегда исчез татарский юноша, и он вошёл в дом как сын своих родителей.
Я пытался донести до него, что за своё спасение и возвращение он должен быть благодарен нашим молитвам, услышанным Богом. Он ответил: “Я не думал о Боге и не молился, потому что никогда этому не учился. Я действовал в соответствии с русской пословицей – на Бога надейся, а сам не плошай”. По его убеждению, только тот, кто берёт судьбу в свои собственные руки, имеет шанс выжить. Он настаивает на истине, что его спасение совершенно не зависело от Божьего провидения.
Так я до сих пор и не продвинулся вперёд. На пути постоянно возникают препятствия. Младшая дочь ничего не понимает в этих чувствах, сын уклоняется, а мать падает вечером в кровать, больная после поисков хлеба насущного, и я просто не в состоянии лишить её этих часов отдыха. И так моя клятва парит в воздухе, как Дамоклов меч над моей головой. Даст ли мне Бог время и отдых?
10. Вынужденное переселение на чужбину на вечные времена
Война всё ближе подходила к концу. Все советские территории были отбиты, и некоторые соседние страны, такие как Польша, Румыния, Венгрия, Болгария, освобождены от фашистов. Союзники, наконец, стали действовать энергичней и оккупировали страны на юге и западе от Германии. Красная Армия сражалась за Берлин.
Из дневника:
9 мая 1945 г., среда.
Сейчас 12 часов. Только что мы, “старики”, вернулись с митинга, молодёжь – Оскар и Хильда – остались там. Победа! И такой долгожданный Мир! Неужели это произошло, в конце концов? Сегодня утром, когда я в половину восьмого вышел на работу и ещё не совсем покинул дом, я услышал с дороги долгожданную новость о наступившем мире.
Многие уже собрались возле почты, в том числе и некоторые учителя. Молодые учительницы бросились мне на шею. Я сильно закачался, и мы чуть не упали в арык (оросительный канал). Они болтали втроём одновременно. Стройная Надежда Семёновна Масюк ласково сунула свой нос мне в бороду: “Теперь и мой Игорь скоро вернётся домой!” Маленькая Анна Ивановна Коваленко залила мне своими горестными слезами всю рубашку на груди – её муж никогда не вернётся домой. А самая серьёзная, державшаяся на расстоянии Мария Фёдоровна Романовская кричала вплотную к моему уху радостные слова: “Теперь нас снова будут считать за людей, и мы освободимся от незаслуженного презрения и ненависти местных жителей!”
В конце концов, из общего крика я понял главное: сегодня, в 3 часа утра, фашистская Германия капитулировала и подписала мирный договор. Я потерял дар речи и не знал, что делать, что говорить, и как избавиться от объятий. Я должен был ликовать и кричать от радости, но не мог собраться с духом. Облегчение, чувство блаженства не хотело брать вверх в моём уме. На заднем плане душу теснила невыносимая боль. Война нанесла нам глубокие, неизлечимые раны: наш любимый Курт никогда не вернётся, не будет радостных бесед с моим дорогим братом Александром.
Где другие близкие и кровные родственники? Некоторые из них умерли, другие пропали без вести, их семьи разбросаны по просторам огромной страны. Как бы я хотел, как это часто было на родине, на Волыни, встретиться со всеми, поговорить, разделить скорбь, а возможно и немного радости с ними. О, горе! Нас всех, абсолютно всех, кто остался в живых, проклятая война разогнала слишком далеко друг от друга и почти довела до нищенства.

