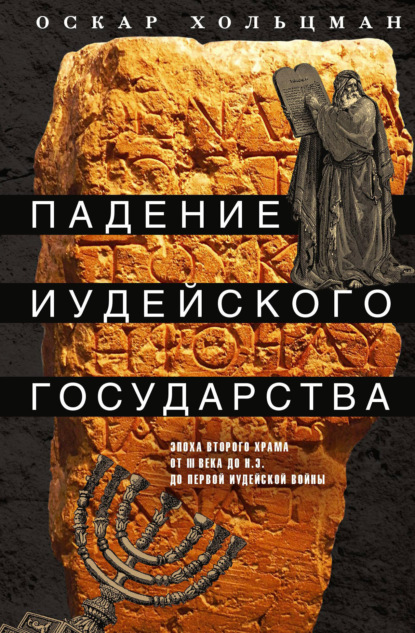
Полная версия:
Падение иудейского государства. Эпоха Второго Храма от III века до н. э. до первой Иудейской войны
Притчи Соломона включены в еврейскую библию, потому что они носили имя Соломона и были найдены достойными этого имени. Такого успеха не имела столь же, конечно, богатая содержанием Книга изречений Иисуса Сирахова сына, потому что она появилась как произведение частного человека и нисколько не скрывала позднего времени своего происхождения. Вполне возможно, что Иисус Сирахов сын при жизни своей был гораздо более известный и уважаемый человек, чем автор изречений Соломона. Именно потому, что все знали его, ему не было надобности ставить перед своей книгой какое-либо древнее знаменитое имя и, таким образом, слава писателя сделалась после его смерти роковой для его книги. В сборник священных книг она не могла быть принята. Вследствие этого первоначальный еврейский текст потерян, за исключением нескольких коротких отрывков, которые цитированы были книжниками позднейшего времени. Произведение дошло до нас в греческом переводе, сделанном внуком автора.
Это произведение во многих отношениях сходно с книгою притч Соломона. Именно, и в нем совершенно отступает назад подчеркивание всего специфически-еврейского (субботы, правил чистоты, жертвенного служения), и здесь руководящей идеей является отношение Бога к индивидууму, а не к Израилю. Но зато особенное преимущество Израиля, состоящее в обладании Божьим откровением, выдвигается весьма сильно. Также громко восхваляются великое прошлое Израиля и красота его богослужения. С другой стороны, нигде нельзя найти ссылки на Закон. Это важно, в особенности потому, что мы, несомненно, имеем дело с человеком, который смотрел на себя, как на книжника. Так, его переводчик свидетельствует о нем: «мой дед Иисус, который все более и болee посвящал себя чтению Закона, пророков и других творений предков и приобрел себе, таким образом, немалую подготовку, увидел себя побужденным сочинить и самому что-либо такое, что имело бы отношение к образованию и мудрости, для того, чтобы любознательные, опираясь и на его произведения, все болee и болee следовали в жизни Закону». Яснее нельзя говорить. Сирахов сын изучил священные книги евреев, он хотел сделать все шире и шире применение Закона в жизни. Но этой цели он пытался достигнуть не посредством возможно более точного и одностороннего изложения Закона, как это делали позднейшие книжники, а тем, что, благодаря изучению существующей литературы, в ее же духе обращался к своим современникам. Слова Сирахова сына о человеке, который желает сделаться книжником, мы привели уже выше, так как они характерны не только для его книги, но, в такой же степени, и для притч Соломона. Укажем здесь также на заключение его сборника изречений, где говорится: «Приблизьтесь ко мне, невежественные, и пребывайте в доме учения, так как вы нуждаетесь в учении, и ваши души жаждут. Я раскрываю свои уста и глаголю вам: добудьте себе его безвозмездно». Здесь имеются в виду два обстоятельства, которые были обычны еще для позднейшей книжной учености. Дом книжника был как бы образовательной аудиторией для любознательных людей, наряду с официальной синагогой, и обучение, которое там предлагали, было бесплатно. Если, таким образом, Иисус Сирахов сын был книжником, то очень понятно, что он, как и автор Притч Соломона, придает величайшее значение обучению и воспитанию юношества. – «Сын мой, говорит он, от юности твоей следуй учению и до седых волос будешь ты находить мудрость. Усваивая мудрость, ты короткое время будешь испытывать трудности, но скоро пожнешь ее плоды. Подставь под нее плечо твое и носи ее и не негодуй на ее узы. Высматривай ее и ищи ее, и она станет тебе известной, и когда ты будешь иметь ее, не отпускай ее: ибо в конце ты обретешь спокойствие, и она обратится на радость тебе; ее оковы станут для тебя могучей охраной, и ее кандалы превратятся в пышное одеяние». Путь, на котором поучаются мудрости, и описывается особенным образом: «Будь в собрании старцев, и кто мудр, к тому присоединись. Слушай охотно всякий рассказ о божественном, и пусть не ускользают от тебя разумные изречения. Если ты видишь мудрого, то ревностно следуй за ним, и пусть твоя нога ступает на порог его дверей. Размышляй о повелениях Господа и постоянно думай об Его заповедях». Как в этой последней фразе, так и в других местах, у Сираха мысль о Законе Бога выступает гораздо резче, чем где бы то ни было в Притчах Соломона. Но везде слышится только призыв к исполнению заповедей, и нигде смысл отдельных заповедей не устанавливается при помощи какого-либо толкования. И именно в том проявляется у Сирахова сына большая сила его религиозных воззрений, что он желает видеть исполнение и внешних предписаний не в силу разумности их, а, как он категорически заявляет, ради самой заповеди. «Кто соблюдает Закон, жертвует много даров; благодарственный жертвы приносит тот, кто держится заповедей. Благоволение Господа достигается уклонением от жестокости и умилостивление Его – уклонением от несправедливости. Не являйся перед Господом с пустыми руками, ибо все это следует приносить ради заповеди. С преданными очами почитай Господа и не удерживай первых плодов рук твоих; при каждом даре проясняй лицо твое и с радостью посвящай десятину». Но тут же Сирах прибавляет одну очень часто высказываемую им мысль: «Не пытайся подкупить Господа дарами, ибо Он не примет их, и не опирайся на неправедную жертву, ибо Господь есть Судья, и Он нелицеприятен». В другом месте он говорит: «Тот убивает сына перед отцом его, кто приносит жертву из достояния бедных». В особенности выясняется переходная ступень, которую занимает Сирахов сын между точкой зрения Соломоновых притч и точкой зрения позднейшей книжной учености, когда он, с одной стороны, заимствует у своего предшественника олицетворение мудрости, а с другой стороны, затем категорически характеризует еврейский Закон, как откровение этой мудрости людям. Вот как заставляет он говорить мудрость: «Я вышла из уст Всевышнего и, как облако тумана, покрывала землю; я жила на высоте, я одна облекала свод неба, я была могущественна и в волнах моря, и по всей земле, и в каждом народе и племени; тогда повелел мне Творец всех вещей и сказал: „В Иакове живи и в Израиле владей“. Все это относится к книге союза Всевышнего Господа, к Закону, который завещал Моисей в достояние общине Иакова: Закон этот наполняет мудростью, как Пишон (водою), и как Тигр в дни новой жатвы; никто не постиг премудрости и не проник до ее основания: ибо глубже, чем море, ее мысль, и совет ее, как великий поток». Собственно говоря, надо удивляться, что, вопреки такому панегирику, автор нигде точнее не изложил этой прославленной полноты мыслей Закона, и что именно она была для него лишь стимулом к собственному творчеству. Но вполне ясно, что с этих пор его, быть может, менее одаренные ученики получили особенно сильный импульс к глубокому изучению Закона.
Жизненный идеал, который выступает перед нами в изречениях Иисуса Сирахова сына, обрисован, правда, в бесконечном множестве отдельных частностей; тем не менее, представляется не слишком трудным познакомиться и с общими основами его. Для этой цели служит, именно, одно из более пространных религиозных рассуждений, которые Иисус Сирах вставил в свою книгу наряду с краткими афоризмами и благодаря которым он в такой же степени стал одним из отцов еврейской хаггады (литература поучений), в какой, благодаря своим изречениям, содействовал основанию еврейской галахи (обычное право). В одном из таких религиозных экскурсов он обсуждает место человека среди творения. Он начинает с библейского воззрения, что человек, созданный из праха, в прах и обратится, что Бог создал его по Своему подобию, так что он – царь животного мира. Затем он говорит далее: «Рассудок и язык, и глаза, уши и сердце дал Он им (людям) для соображения; Он наполнил их познанием и показал им добро и зло. Он поместил Свое око в их сердца, для того, чтобы показать им возвышенность Своих творений. Он предоставил им обладать Законом жизни, основал вечный союз с ними и преподал им Свои заповеди». Затем следует изображение всеведения Господа по отношению к праведности и греховности людей и увещевание не следовать греху, который признается существующим всюду. Рядом с этой всеобщей греховностью людей святость и величие Бога выступают еще ярче. «Что такое человек, и каково его значение? Что такое его счастье и что его несчастье? Число дней человека составляет немного лет, самое большее сто; как капля воды в океане и зернышко в песке, так немногие годы в вечности. Поэтому Господь терпелив к людям и изливает на них Свое милосердие; Он видел и понял, что конец их ужасен, поэтому Его всепрощение должно быть велико. Милосердие человека распространяется на его ближнего, а милосердие Господа – на всех людей; Он указывает им путь, Он карает и учит, и ведет их назад, как пастырь свое стадо; Он милосерд к тому, кто принимает кару и стремится к заповедям Его».
В этих рассуждениях мы имеем вполне законченный взгляд на религиозные отношения человеческой жизни. Человек – властелин над землею, он может познать величие Бога, может выбирать между добром и злом, и Господь открыл ему Свою волю в Законе, Он воздает ему при жизни по делам его; но человек преходящ, поэтому Господь проявляет к нему Свое милосердие; также и посредством дней страдания пытается Он направить его на путь истинный. Что в особенности обращает здесь внимание на себя, – это совершенное устранение идеи, что Божья милость особенно почивает на Израиле. И Закон дан здесь человеку, с ним заключен вечный союз Бога; прямо указывается, что Божье милосердие распространяется на всех людей, и это милосердие вызывается недостатком, коренящимся в природе человека, – ибо автор не считает смерти вмecтe с повествованием книги Бытия карою за грех, а согласно древнееврейскому воззрению, считает человека сотворенным для смерти. Этому соответствует его вполне древнееврейское понимание траура: «Сын мой, проливай слезы по усопшем и, уподобляясь тому, кто тяжко страдает, начни печальный напев; позаботься о трупе его, как подобает, и не пренебрегай погребением его; печалься, как подобает, день и два дня, чтобы не было клеветы; a затем утешься в своей печали, ибо от печали происходит смерть, – усопшему ты не принесешь пользы, а себе повредишь». Если Иисус Сирах в своем олицетворении мудрости в существенном, по-видимому, примыкает к Притчам Соломона, то он, как кажется, впервые выразил на еврейском языке иной философский круг мыслей. Он говорит именно о том, что Бог не склоняет человека к греху, а что человек обладает свободой выбора между добром и злом. Еще второй Исайя категорически выводит зло от Иеговы. A здесь, у Иисуса Сираха, мы читаем: «Не говори: Господом был я отвергнут, – ибо ты не должен делать того, что Он дурное ненавидит; не говори: Он Сам обольстил меня – ибо не нуждается Он в грешнике; Все дурное ненавидит Господь и не любит Его тот, кто Его боится. Он изначала создал человека и предоставил его собственному уму. Если бы ты пожелал, ты мог бы соблюдать заповеди, и хранить верность есть дело твоей воли: он предложил тебе огонь и воду, и куда ты желаешь, можешь ты простереть свою руку. Пред человеком лежат жизнь и смерть, и ему будет дано то, чего он пожелает; никому не дал Он быть безбожным и никому не разрешил Он греха». Подобный образ мыслей, рассматриваемый с религиозной точки зрения, еще далеко не представляется самым высоким, потому что сообразно с ним грех всегда может быть понимаем только как поступок отдельного человека, а не как властвующая над отдельным человеком и покоряющая его сила греха. Но прилагать абсолютный масштаб, – это часто значит не замечать медленного исторического прогресса. Утверждения Иисуса Сираха вызваны идеей непогрешимой святости Бога; необходимо было установить значение этой идеи, прежде чем можно было рассмотреть отношение индивидуума к всеобщей силе греха; а твердо и во всей силе установить непогрешимое совершенство Бога было для эпохи Сираха в особенности необходимо потому, что тогда отступал на последний план тот догмат, который для прежнего времени был возмещением и источником всех качеств Бога, – именно, особенное отношение Его к Израилю. Если сопоставить все эти точки зрения вместе, то можно видеть, как близко это еврейство, благодаря своему собственному внутреннему развитию, подошло к философскому эллинизму своего времени. Ибо последней основной причиной этого развития было не внешнее влияние, а то, что каждый отдельный израильтянин был связан писаным Законом, так что с тех пор уже не народ Израиля, а отдельный, верный Закону человек, представляется объектом любви своего Бога.
Та же точка зрения, с которой была рассмотрена защита Иисусом Сирахом свободы выбора, должна быть применена и к тем его словам, в которых он предостерегает от обхождения с грешниками таким, несомненно, отталкивающим образом: «Творя добро кому-нибудь, знай, для кого ты это делаешь, и ты получишь благодарность за свои благодеяния. Делай добро благочестивому, и ты найдешь воздаяние, если не от него, то от Всевышнего. Не для того благодеяния, кто постоянно умышляет злое, и не для того, кто неохотно совершает добрые дела. Давай благочестивому и не пекись о грешнике; благотвори угнетенному и не давай безбожному. Удержи хлеб перед ним и не давай ему, дабы он не получил, благодаря этому, силы над тобой. Ибо много зла испытаешь ты при всех своих благодеяниях, которые ты ему оказал. Ибо и Господь ненавидит грешников, и безбожнику воздает Он местью. Давай доброму и не пекись о грешнике». И здесь не следует забывать исторического масштаба. Святость Бога требует священной общины, – вот единственная точка зрения, которая имеет здесь силу для Сирахова сына. Он вовсе и не мог иметь оснований для сострадания грешнику, потому что, в силу своей идеи о свободе человека выбирать между добром и злом, он ничего не знал о таком несчастии греха, от которого человек не мог бы освободиться собственными силами. Глубже проникнуть в этот вопрос выпало на долю более крупной личности.
И, тем не менее, Иисус Сирах замечательным образом сам нарушил эти своеобразные рамки своего жизненного идеала. Весьма категорически требует он, чтобы люди взаимно прощали друг другу. «Кто мстит, говорит он, испытывает отмщение от Господа, и его грехи не оставляет Он в забвении. Прости обиду своему ближнему, и тогда, если ты попросишь, будут прощены твои грехи. Может ли человек, питающий гнев к ближнему, требовать от Господа прощения? Помни заповеди и не питай злобы к ближнему, помни о союзе с Всевышним и будь снисходителен к ошибкам!» Там, где друг другу прощают грехи, там этими грехами не разрушается существовавшее прежде общежитие, и, значит, там не сторонятся от грешника, как этого решительно требует вышеупомянутое изречение Сирахова сына. Если, таким образом, оценка любви к ближнему является здесь столь же прекрасной и теплой, как и в Притчах Соломона, то Иисус Сирахов сын случайно сообщает нам и то, из какого источника возникло для его современников сознание обязанности общечеловеческой любви. Вот что именно говорит он в одном месте: «Всякое живое существо любит себе подобное, и всякий человек любит своего ближнего». Здесь ясно выражен в немногих словах великий результат слияния народов в эллинизированных странах. Различие между эллинами и варварами, как и различие между Израилем и языческим миром, даже все народы, получила господство. Это тем важнее, что идея эта становится общей почвой для язычников и евреев, на которой для обоих народов может вырасти существенно новое преобразование нравственного общежития. Это обнаруживается у Сирахова сына, именно в его рассуждении о рабстве: «Не обращайся дурно ни с рабом, который добросовестно трудится, ни с поденщиком, который предан своему делу; люби разумного раба; не отказывай ему в отпущении на волю».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Характерным признаком еврейства, подвергшемуся эллинскому влиянию, служит то, что не только здесь, но и во всей еврейской литературе этого времени, на место государства выступает город. Для позднейшей еврейской историографии Иудея равносильна области Иерусалима, и в изложенной ниже еврейской афористической мудрости всюду, по греческому образцу, как средоточие народной жизни является город.
2
Правда, эти двадцать талантов серебра считались личной данью первосвященника; но против его упорства Птоломеи могли бы, конечно, принять иные принудительные меры, нежели те, которыми они угрожали в данном случае. Из последующего рассказа выясняется, что египетско-эллинская правительственная система поручила взимание дани уважаемому коренному гражданину обязанного к уплате города. Двадцать талантов серебра были, таким образом, данью не всей Палестины, а тогдашней Иудеи, т. е. области Иерусалима (см. прим. на стр. 25).
3
При этом случае впервые идет речь о собрании знатных в Иерусалиме, как о правительственном учреждении. В одном из своих эдиктов Антиох III восхваляет блестящий прием, во время которого евреи вышли к нему навстречу со своим собранием знатных (герузия). Это собрание знати представляет собой нечто иное, чем позднейший синедрион. И здесь, по-видимому, тоже осуществилось, возможное только на еврейской почве, подражание, преимущественно, разумеется, демократическому эллинскому городскому строю.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

