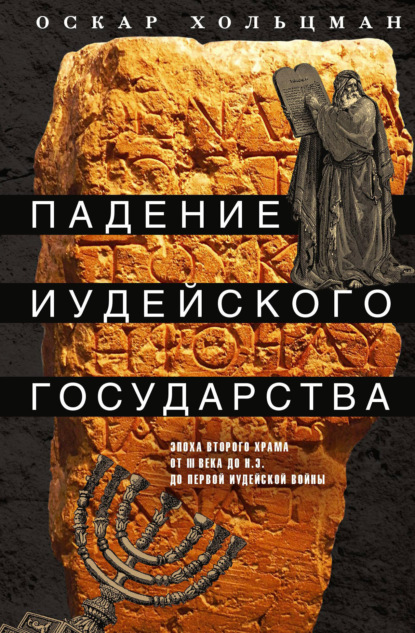
Полная версия:
Падение иудейского государства. Эпоха Второго Храма от III века до н. э. до первой Иудейской войны
Но, возможно, что негодование по поводу этого, безусловно, враждебного евреям рассказа Манефона послужило для александрийских евреев поводом к тому, чтобы сделать языческому миру доступным в греческом переводе Пятикнижие, т. е. ту священную книгу, в которой изложены были история их пребывания в Египте и их Закон. Во всяком случае, упреки Манефона в высшей степени заслуживают внимания. Ведь это, значит, сильно преувеличивает первую из десяти заповедей, когда говорят, что Моисей обязал свой народ не почитать богов. Но этот упрек впоследствии каждый раз снова выступает на сцену. Исключительность израильского монотеизма не может быть постигнута с точки зрения натуралистической. В последней единое всеобъемлющее Божество не исключает множественности богов, а, наоборот, предполагает ее. Для пантеиста каждая вещь в природе есть самооткровение Божества. Бог же Израиля один охранял и освящал подвластный ему народ, и поэтому он и не хочет разделять с кем-либо подобающее ему поклонение и ревниво наблюдает за тем, чтобы он один, и никто другой не был почитаем этим народом. Вот почему евреи в чужой стране должны были отказываться делать то, что во всем остальном мире было совершенно обычно. Они не молились ни богам – хранителям города, ни богам – хранителям страны, в которой они жили: только своему Богу молились они и за не израильский город, за не израильскую страну. Таким образом, каждый раз снова поднимался против них упрек, брошенный Манефоном: «богов они не чтут!». И это, следовательно, упрек, имеющий свое глубокое основание в самом существе израильской религии: Манефон знает, что мировоззрение евреев совершенно иное, нежели мировоззрение язычников. Естественно, что со своей точки зрения он не может понять того, что только на пути этого чуждого ему мировоззрения могут быть осуществлены идеалы человеческой религиозности и нравственности. Второй пункт, именно, что евреи закалывали священных для египтян животных, был менее тяжким упреком Манефона; это нисколько не вредило евреям в глазах каждого не египтянина. Напротив, третий упрек очень важен. Обособленность от всего остального человечества является также и впоследствии предметом постоянно возвращающегося обвинения против евреев. Но свое основание эта обособленность имела в том, что святость, которой Бог Израиля требовал от своего народа, распространялась и на самые незначительные мелочи жизни и делала почти невозможными для благочестивого еврея близкие сношения с иноверцами. Если на чужбине евреи признавали себя вынужденными оставлять в угоду языческой среде некоторые требования Закона без исполнения, то еще усерднее за то старались они соблюдать все, что представлялось исполнимым в действительности. И это рвение к Закону воздвигало и на чужбине почти непроницаемую стену между евреями и не евреями. Но нравственная система, которая воздвигала между народами подобную стену, казалась, именно на почве эллинизма, абсурдом; ибо ведь как раз на этой почве и хотели слить различные народности. С этой точки зрения ценили достоинство каждой отдельной народной индивидуальности и впервые понимали идею человека не только как видовое имя, но и как необходимую основу этики. Для хода развития нравственно-религиозных воззрений чрезвычайно характерно, что именно народ классический в отношении религиозного и нравственного развития, незадолго до той поры, когда он в состоянии был одержать окончательную победу над язычеством, выставлялся своими противниками, поверхностно судившими по одной лишь видимости, как народ неверующий и безнравственный. В остальном выходки Манефона по адресу евреев представляют собой пошлые насмешки; только отвращение к идолам, в котором их обвиняли, было действительным фактом, нескрываемым самими евреями.
5. Ответ евреев
Евреи не остались, однако, равнодушными к обрушившимся на них насмешкам. Дело дошло до литературного спора, который евреи повели не в виде открытого диспута с Манефоном, а так, что различными способами публично противопоставляли истинную картину своего прошлого ложной, нарисованной Манефоном. Это выразилось уже в переводе их древних священных первоисточников. Опыт, однако, показал, что эти произведения или не читались язычниками, или не находили доверия, и евреи очутились в том щекотливом положении, в котором бывает каждый, кто выступает своим собственным защитником. Тогда избрали себе чужого. При дворе первого Птоломея жил историограф Гекатей из Абдеры. Этот ученый, кроме одного произведения о Гипербореях и другого – о поэзии Гомера и Ге – зиода, написал также египетскую историю, в которой он, естественно, должен был упомянуть и о еврейском народе. Так как в его время евреи еще ни в каком отношении не подавали повода к зависти, то он вел повествование о них спокойно и деловито. Все достоинство этого изложения евреи оценили, однако только после того, как Манефон опубликовал свои издевательства над ними. Но содержания произведений Гекатея не было, однако, достаточно для совершенного опровержения Манефона. Поэтому их пробелы были так обильно заполнены еврейской рукою, что уже позднейшие писатели древности либо сомневались в подлинности его «Книги о евреях», либо считали автора еврейским прозелитом. По-видимому, два места в его произведении были распространены в большое целое. Первоначальную историю евреев излагала апокрифическая книга Гекатея об Аврааме и египтянах. Это сочинение не довольствовалось только тем, чтобы сделать Авраама провозвестником единства Бога, возвышенности Бога над всем, что Он создал: в книгу введен был целый ряд стихов знаменитых греческих поэтов для подтверждения истинности того, что проповедовал Авраам. Но дурно то, что и эти стихи по большей части не подлинны. Во всяком случае, в высшей степени интересно, что еврей того времени мог заставить самых знаменитых греческих поэтов (именно Эсхила, Софокла, Эврипида, Филемона, Менандра, Дифила, между ними и мифического Орфея) возвышать еврейское воззрение на Бога, не впадая тут же в противоречие. Правда, то, что здесь сообщается, есть лишь часть еврейского понимания Бога. Живое отношение Бога к своему народу нигде не выступает вперед. Но святость Бога, которая даже жертвенное служение ставит ниже исполнения нравственных заповедей, и которая указывает отдельной личности на будущее воздаяние, всюду подчеркивается: правда, эта идея в сущности не была совершенно чужда, например, великим трагикам. Наряду с этими подделками введены и некоторые подлинные отрывки из прежней греческой литературы. Все это литературное направление весьма знаменательно: оно обнаруживает обширное знакомство с греческим языком и литературою; человек, который мог так писать, был по своему образованию эллином, как бы он не гордился своим еврейским происхождением и складом мышления. И как он сумел слить в своем лице эллинизм и иудаизм, так умел он и в мировоззрении обоих народов искать и находить родственные черты. Именно то усиливало в нем его чувство собственного достоинства, что он в высших идеях греков открывал лишь предчувствия того, чем давно обладал его народ, благодаря Откровению Бога. Был ли успех всей этой книги Гекатея об Аврааме значителен, – неизвестно; цитирование греческих писателей с целью более сочувственного принятия эллинским язычеством иудейской миссионерской проповеди с тех пор вошло во всеобщее употребление, и уже Павел перенес тот же самый прием на христианскую миссионерскую проповедь.
Второе расширение известий Гекатея Абдерского о евреях относилось к современному состоянию иудейского народа и носило заглавие: «О евреях». Оно, несомненно, гораздо ближе примыкалось к тексту Гекатея, чем сказание об Аврааме и египтянах, и из отрывков, которые дошли до нас, по большей части можно еще выделить еврейскую переработку. Из подлинного Гекатея, как он еще всюду выделяется в этой переработке, мы приведем здесь небольшой рассказ, ярко характеризующий свежесть и силу, которые около IV века жили еще в еврейском народе и совершенно отличны от косности и неподвижности книжников. «Когда я переправлялся через Красное море, – рассказывает Гекатей, – между сопровождавшими меня еврейскими всадниками был один сильный духом, здоровый, всеми уважаемый стрелок из лука по имени Мозоллам, самый дельный между эллинами и варварами. В пути было множество людей, когда один прорицатель, гадавший по птицам, приказал всем остановиться. На вопрос Мозоллама о причине задержки, прорицатель указывает на птицу и объясняет: если она останется на месте, то следует выжидать; если она полетит и умчится вперед, то и мы должны двинуться; если она полетит назад, то мы должны снова вернуться вспять. Тогда, ни слова не говоря, Мозоллам натягивает лук, спускает стрелу, попадает в птицу и убивает ее. Когда же прорицатель и некоторые другие возмутились, и стали его проклинать, он сказал: „Зачем вы так гневаетесь? Ведь теперь эта проклятая птица у вас в руках. Что разумное могла бы она сказать о нашем плавании, если она не предвидела своей собственной участи? Если бы она заранее могла знать будущее, она не прилетела бы на это место из страха, чтобы в нее не попал стрелой и не убил еврей Мозоллам“». В этом рассказе еще звучит древне-иудейская сила и юношеская мощь, какой она является нам в сказаниях о Гедеоне, Сауле и Давиде. Здесь еще носителем теоретического протеста против идолопоклонства и колдовства является деятельное, жизнерадостное настроение.
Но евреи недолго довольствовались этими подложными книгами Гекатея. При втором преемнике Птоломея Филадельфа, Птоломее IV, по прозвищу Филопатор (222–205), эллинизированный еврей по имени Деметрий написал историю еврейских царей, изложенную с большою точностью. Под ней нельзя, однако, понимать простое повествование, идущее параллельно библейским книгам Самуила и Царей. Вся первоначальная история еврейского народа, жизнь Иакова, точная дата рождения каждого из его 12 сыновей, генеалогия супруги Моисея Циппоры, – все это обсуждается с обстоятельностью, которая могла быть под силу только александрийскому ученому. Рассказ доводится до эпохи самого историка. Как мы видим, александрийское еврейство не без основания гордилось своим духовным развитием. В это время господства Птоломеев различие между палестинцами и александрийцами, несомненно, существовало, но оно не чувствовалось, как резкая противоположность; и в Палестине все более и более учились говорить по-гречески и знакомились с греческой литературой.
Некто Филон написал в ужасных греческих гекзаметрах длиннейшее стихотворение о городе Иерусалиме[1]. И он начал с Авраама и изложил затем еврейскую историю в течение всей эпохи царей. К этому присоединены более длинные экскурсы, например, о водопроводах в Иерусалиме. Это стихотворение упоминается в последнем столетии до P. X. еще во время господства Асмонеев (до 63 г.). Подобное стихотворение, однако, могло быть составлено только при более близком и непосредственном знакомстве с Иерусалимом. Но на две последние трети второго столетия до P. X. падает беспрестанная борьба Асмонеев против эллинизма. Едва ли это греческое стихотворение возникло в такую эпоху. Плохие гекзаметры также лучше всего подходят ко времени Птоломеев; впоследствии греческие стихи лучше давались евреям. В данном случае мы, значит, имеем дело с акклиматизировавшимся в Иерусалиме эллинистом. Это служит для нас подтверждением того, что мы, впрочем, и без того должны были бы принять, а именно: что ко времени господства Птоломеев над Палестиной и в метрополию еврейства греческая цивилизация проникла таким же образом, как и к евреям в Египет. Только в ней закон мог еще гораздо строже исполняться, чем на чужбине, где, несмотря на всю эллинизацию в иных отношениях, он принципиально сохранял свое полное значение.
6. Политические события
Между тем снова наступили государственные перевороты. Уже Птоломей Филадельф в войне с Антиохом II (Теосом) распространил свое господство до береговой границы Малой Азии; ему принадлежала большая часть расположенных перед Малой Азией островов, и он уже замышлял утвердиться во Фракии. Тогда противники заключили мир. Антиох II должен был развестись со своей женой Лаодицеей и сочетаться браком с дочерью Птоломея Вереникой. Но после смерти Птоломея Филадельфа (247) Антиох II снова отымает у египтян Эфес, возвращает опять к себе свою изгнанную супругу Лаодицею, а египетскую царскую дочь Веренику вместе с ее сыном оставляет в Антиохии; тогда Лаодицея, боясь непостоянства своего супруга, убеждает его провозгласить наследником престола ее старшего сына Селевка и затем убивает своего мужа. Вереника, которая сначала хочет защищаться, должна, однако, сдаться, и ее коварно убивают вместе с ее сыном и всеми ее слугами. Это обстоятельство влечет за собою войну брата Вереники Птоломея III Эвергета с сыном Лаодицеи Селевком II Калинником. Война эта, которая ведется на воде и на суше, кончается после тяжелой, в общем победоносной для египтян борьбы, десятилетним перемирием. Для египтян и на будущее время их владения остаются несуженными; лишь Антиох III Великий снова получает силу и отвагу бороться с египтянами.
Изменой Феодота, египетского наместника в Келесирии Финикии, для Антиоха была уже подготовлена почва, когда новый египетский царь Птоломей Филопатор, поняв коварный замысел Феодота, послал в эти провинции другого сатрапа. Но именно это и дало повод к войне. Феодот держался в Птолемаиде и Тире и оттуда просил Антиоха о помощи. Тот является и располагается не только в сирийской Селевкии, собственно в портовом городе Антиохии, который, однако, до тех пор принадлежал египтянам, но и в укрепленном Тире и в важной, как ключ к Изреельской долине, Птолемаиде (прежде Аккоу). Это удалось ему, потому что там правителем был Феодот. Он занял и другие небольшие местности Финикии; более важные пункты были с трудом защищаемы египтянами. Так обстояло дело в 219 г. Осенью было заключено четырехмесячное перемирие и были завязаны переговоры о мире. Антиох III требует мирной сдачи Келесирии (между Ливаном и Антиливаном) и Финикии. С другой стороны, египтяне требуют признания особого царя для Малой Азии. Обе стороны не соглашаются на эти условия.
В 218 г. война снова возгорается, но и в этом году она привела только к покорению некоторых городов Финикии (Арад, Берит) и к безуспешной осаде Сидона. Настоящая военная сила египтян только весною 217 г. сталкивается с войском Антиоха. Вплоть до юга от Газы Антиох шел на встречу Филопатору; здесь, при Рафии, дело дошло до решительной битвы. Египетское войско насчитывало 70 тысяч человек и имело 70 ливийских слонов, которые здесь впервые введены были в бой. Все количество сирийского войска не указывается; во всяком случае, по числу слонов, которых оно имело при себе 120 (это были испытанные боевые индийские слоны), оно превосходило египетское. Ливийские слоны египтян не могли переносить запаха индийских и своим бегством привели левое крыло египетского войска в смятение. Но тем больше напрягали свои силы все остальные части египетского войска. Антиох был разбит, сорок его индийских слонов попали в руки египтян. Заключено было перемирие, которое впоследствии перешло в мир. Египет удержал свои угрожаемые провинции и добился того, что бунтовщик, который желал сделаться царем М. Азии, был усмирен Антиохом. Этим театр войны был, по крайней мере, удален от границ Египта.
Для Палестины эти войны получили большее значение только тогда, когда в 217 г. она увидела пред собою сирийское войско свирепствующим, как Божья кара. До сих пор со времени начала господства Птоломеев, ни один враг не вступал на еврейскую почву. Несмотря на это, кажется, уже в последние годы царствования Птоломея Эвергета (247–222) была среди палестинских евреев партия, для которой невыносимы были даже мягкие формы чужеземного владычества Птоломеев. Об этом мы имеем весьма обстоятельное сообщение, и стоит труда ближе познакомиться с ним, потому что герои рассказанной в нем истории являют собою первый исторический пример того несимпатичного еврейского типа, который до сих пор вредно отражался на отношении прочих народов к евреям. При Птоломее Эвергете евреи были теснимы самаритянами. Последние нападали на Иудею, срезали ней жатву, похищали и продавали людей. Тогда первосвященником был Оний II (Хония). Этот старик отказывался посылать царю дань в двадцать талантов серебра, которую он по обычаю должен был вносить. Постановление, что об отсылке дани в Александрию должен был заботиться первосвященник, было, несомненно, снисхождением, которое греческое правительство в противоположность персидскому, оказывало евреям[2]. Благодаря этому, первосвященническое достоинство, по сравнению с эпохой Неемии и Эзры, снова очень поднялось. Чужеземного или коренного наместника царя из птоломейской династии, наряду с первосвященником, не существовало. Кажется, что именно нужда, которая была вызвана нападениями самаритян, дала ближайший повод к задержке в уплате подати, но, конечно, возможно и то, что религиозная идея служила для первосвященника препятствием к исполнению этой верноподданнической обязанности, так как казалось менее всего достойным первосвященника приносить за свой народ знак покорности какому-либо другому господину, кроме Иеговы. Едва ли вероятно, что к задержке в уплате подати его влекло любостяжание, как его упрекает в этом рассказчик, ибо взгляд на римскую историю, несомненно, указывает, что взимание государственных податей при древней системе управления могло быть чрезвычайно доходным занятием, и герой, который сейчас выступает на сцену, показывает нам тоже самое.
Птоломей Эвергет отправил в Иерусалим посла, который должен был потребовать оставшейся неуплаченной дани и в случае задержки пригрозить занятием страны македонскими воинами. Тогда Иосиф, сын Товия и племянник (по сестре) правящего первосвященника, выступает в качестве посредника. Он случайно был вне Иерусалима, когда прибыл посол. Его мать, сестра Ония, сообщает ему об этом важном событии и, по-видимому, воодушевляет его приняться за дело. Он поспешно прибывает в Иерусалим, делает Онию горькие упреки за то, что тот легкомысленно подвергает свой народ опасности. Он советует ему отправиться к царю и просить у него прощения. Но Оний был не из тех бесхарактерных людей, которые, начиная великое предприятие, в случае неудачи, тут же смиряются. Видя, что испуганные жители Иерусалима покинули его и перешли на сторону Иосифа, он высказывает своему племяннику, что он готов во всякое время отказаться от своего первосвященнического сана, но не может решиться на поездку в Александрию. Тогда Иосиф требует для самого себя разрешения на эту поездку, и Оний дает его. Тут же Иосиф сзывает общину к преддверию храма и объявляет свое намерение ехать самому умилостивить царя. Затем он оказывает у себя самый лучший прием царскому послу, обещает все устроить и лично приехать в Александрию. Этот посол, вернувшись домой, приготовляет царя к благосклонному приему Иосифа при дворе. A Иосиф занимает у своих друзей в Самарии – надо вспомнить описанное выше отношение между евреями и самаритянами – деньги на путешествие. Случайно тогда же первейшие и знатнейшие лица из городов Финикии и Сирии отправились в Александрию, чтобы взять в откуп сбор податей, – эту сделку надо было заключать каждый год сызнова. Эти лица с пренебрежением относились к Иосифу ввиду его бедности и незначительности его общественного положения. Царь находился тогда не в Александрии, а в Мемфисе. Иосиф отправляется туда вслед за ним, встречает его на пути вместе с его супругой и знакомым ему из Иерусалима послом; ему оказывают самый милостивый прием, и он очень умно и ловко просит у царя прощения за вину своего впавшего в детство дяди и обещает уплатить все. Царю он так понравился, что тот совсем оставляет его при дворе, и каждый день приглашает к столу.
Но особенно вошел он в милость к царю, когда, вполне игнорируя желания своих соплеменников, – обещал царю платить двойную, сравнительно с предложенной другими, цену за откуп всех имеющих поступить из Финикии, Самарии и Иудеи доходов и вместе с тем отсылать в Александрию конфискованное имущество всех осужденных за оскорбление величества. Таким образом, все дело было поручено ему, a другие искатели, более богатые и влиятельные, относившиеся к нему ранее с насмешкою со стыдом вернулись домой. С двумя тысячами человек пехоты и необходимыми денежными средствами, которые он собрал посредством займов, он удаляется, показывает Аскалонии и Скифополисе, двух населенных язычниками городах, несколько грозных примеров, дюжинами осуждая на казнь протестующих вельмож и, понятно, к великой радости царя, отсылая их имущество в Александрию. Несмотря на то, однако, что ему нужно было платить необыкновенно большую сумму Птоломею и, кроме того, поддерживать благосклонность двора подношениями разного рода, он успевает накопить огромное состояние. Вероятно, в это время среди еврейского народа слова «мытарь» и «грешник» сделались синонимами. Для полноты характеристики этого Иосифа не лишен интереса и следующий рассказ. Однажды он был со своим братом в Александрии. Этот брат имел при себе свою взрослую дочь и желал выдать ее замуж за какого-нибудь видного александрийского еврея. Однажды во время пира Иосиф увидел за столом красивую танцовщицу и поведал своему брату, что он влюблен в нее. Он попросил брата доставить ему эту язычницу, но в тоже время держать это дело в тайне, потому что еврею запрещено было прикасаться к не еврейке. Тогда брат переодевает свою дочь и отдает Иосифу. От этой связи произошел самый достойный сын Иосифа Гиркан, который сначала нравился ему своей ловкостью, благодаря которой он сумел стать в Александрии популярным; но эта популярность стоила отцу слишком много денег, и он прогнал сына, который потом скитался по Перее, где он, наконец, вблизи древнего Хесбона построил себе сильную крепость из белого камня. Впрочем, эти последние события падают уже на более позднее время.
После своей победы при Рафии над Антиохом Великим (217) Птоломей Филопатор вступил победителем в Иерусалим. Здесь он принес в храме жертву, как это сделал уже его предшественник Эвергет. Возможно, что его влекло только любопытство; возможно и то, что слишком дружеский прием сирийского царя со стороны евреев сделал его равнодушным к горестным крикам их священнослужителей; быть может, наконец, им руководило простое желание показать себя стоявшим выше первосвященника. Как бы то ни было, он вошел внутрь храма, но сейчас же был вынесен оттуда оглушенный и разбитый. О том, как он отомстил евреям, мы имеем лишь вполне легендарное сказание.
Мир с Антиохом Великим продолжался не долго. Еще в царствование Филопатора Антиох победоносно захватил Иудею. Но в 205 г. Филопатор умирает и в лице пятилетнего Птоломея Эпифана оставляет после себя наследника престола. Вслед за этим царский полководец Скопас предпринял зимний поход в Палестину, подчинил себе всю Иудейскую страну и покорил множество (эллинизированных) городов. Для того чтобы иметь возможность продолжать свой поход, он вернулся затем на свою родину, в Этолию, набрал там 6 тысяч пехотинцев и 500 всадников и повел их в Египет. Но и Антиох сейчас же поспешил туда. На крайнем севере Палестины, при Панеасе произошло решительное сражение (198). Антиох победил Скопаса в кровопролитном бою; тот укрепился в Сидоне, который не был взят Антиохом и в 218 г. Но и его мужество оказалось бессильным; он добился только свободного отступления в Египет; Антиох подчинил себе города Келесирии и Самарии; иерусалимцы добровольно открыли ему свои ворота[3] и вместе с ним сражались с египетским войском в своей крепости, пока не прогнали неприятеля. Это обстоятельство, конечно, объясняется только тем, что Филопатор нарушил их священный обычай. Быть может, гнев евреев вызвало также и то, что Филопатор ввел египетский гарнизон в их священный город: мы не имеем указаний на то, чтобы такой гарнизон был у них уже раньше; судя по всему, в его состав входили люди известного нам откупщика податей Иосифа. Вслед за тем как Антиох после продолжительной осады покорил еще и Газу, роковое стечение обстоятельств заставило его вернуться обратно. Евреям же за дружеский прием, оказанный ему в Иерусалиме, он дал разного рода льготы.
До нас дошло три эдикта Антиоха, с которыми он обратился, по-видимому, к своим вождям и в подлинности которых нет основания сомневаться. В первом из них Антиох берет на себя уплату всех издержек, требуемых богослужением; кроме того, он предоставляет известные денежные суммы на ремонт храма, окружающих его колоннад и т. д.; за необходимое для этого дерево не должна взиматься пошлина. Весь народ должен быть управляем по закону своих отцов; советники, священнослужители и книжники, а также духовные певцы свободны от податей; также и остальным жителям и тем, кто вновь поселится до известного срока, предоставляется в течение трех лет свобода от податей; впоследствии обычную подать им уменьшили на одну треть. Можно себе легко представить ликование, вызванное этим поистине царским указом. Для Антиоха было важно сохранить преданность вновь покоренного населения. Второй эдикт охранял город от языческой нечисти. Ни один язычник не смел вступать в священную область храма. Мясо запрещенных евреям животных, равно как и их шкуры и жир, нельзя было привозить в город. За нарушение этих постановлений определен был штраф в размере трех тысяч серебряных драхм в пользу священнослужителей.

