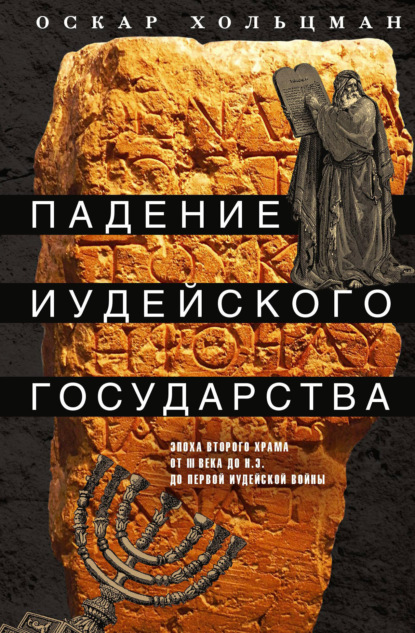
Полная версия:
Падение иудейского государства. Эпоха Второго Храма от III века до н. э. до первой Иудейской войны
В третьем эдикте Антиох идет, наконец, по стопам своего предшественника Селевка Никатора. Этот эдикт относится, правда, не к иерусалимским, а к вавилонским евреям, которые должны быть переселены в Малую Азию. Из Месопотамии и Вавилонии 2000 евреев должны быть водворены в мятежной Лидии во Фригии. «Ибо я убежден, что они, благодаря своему благочестию будут благонамеренными стражами державы нашей, и я знаю также, что их предкам даны были доказательства верности и добровольного повиновения». Этим еврейским колонистам обещаны свобода жить сообразно с их Законом, места для построек и земли для пашни и виноградников, свобода от податей в течение 10 лет и средства к жизни до первого собственного урожая. Наконец, всякое обременение этих строго воспрещается.
Между тем Антиох не долго беспрепятственно владел своими вновь покоренными странами. Угрожавшее нашествие римлян принудило его заключить с египтянами скорый и возможно продолжительный мир. После того как Македония была уже сломлена Римом, для обоих других эллинизированных царств было важно неизменно держаться вместе. Антиох прибегнул к тому же средству, которое однажды употребил Птоломей Эвергет, для того чтобы заключить мир с Сирией. Антиох выдал свою дочь Клеопатру за молодого египетского царя Птоломея Епифана, и в Рафии в 193 г. была торжественно отпразднована свадьба. В приданое он дал за своей дочерью три вновь приобретенные провинции – Келесирию, Финикию и Палестину. Не совсем ясно, как это следует понимать, так как тут же рассказывается, что оба царя делились податями, и так как фактически следующие цари Селевкиды с самого начала без борьбы владели этими провинциями. Поэтому правильно будет, кажется, принять, что, согласно существовавшему и в других краях обычаю, Клеопатра получала с этих областей определенные доходы, между тем как в целом страна оставалась под верховным владычеством Сирии.
Для евреев же это отношение их страны к обоим царствам было, по меньшей мере, только благоприятно, потому что обе царские династии теперь одновременно старались снискать их преданность. Так, кажется, что ассигнованные Антиохом Великим на украшение храма денежные суммы были действительно выплачены и употреблены по назначению. Это подтверждается почти одновременным прославлением первосвященника Симона, сына Ония, которое находим в сборнике изречений Иисуса, сына Сирахова. Там говорится: «Это был первосвященник Симон, сын Ония, который при жизни своей улучшил дом Божий и в течение дней своих обновил храм. Им была поднята до двойной высоты ограды высота стены святилища; в его дни был вылит из меди резервуар, по размерам своим широкий, как море; он оберегал свой народ от падения и укрепил свой город против осады». Этого первосвященника, Симона II, обыкновенно относят к эпохе между 219 и 199 гг. до P. X. Но, кажется, конец его правления падает на более позднее время, так как Антиох владел Иерусалимом только с 198 г., а упоминаемые здесь сооружения имеют связь с приведенным выше эдиктом, который относится как раз к этому времени. И начало его первосвященничества также, вероятно, падает на более поздний период, так как первосвященничества Ония II и правление его племянника Иосифа, по-видимому, некоторое время еще совпадали между собою.
7. Притчи Соломона. Иисус Сирах. Фокилид
Внутренняя жизнь этой эпохи характеризуется упомянутым сборником изречений Иисуса бен-Сира или, как его обыкновенно называют, Иисуса сына Сирахова. Он жил в это время и, во всяком случае, написал свою книгу еще до того, как вспыхнуло восстание Маккавеев. Он писал в Иерусалиме на еврейском языке. Для правильного его понимания мы должны указать его место в том умственном движении, которое началось уже до него. С тех пор как при Эзре еврейский народ дал торжественную клятву исполнять Закон, сословие книжников, как бы по внутренней необходимости, начало разрастаться все более и более. Отдельных книжников мы находим уже после реформы 621 г., во время Иеремии; но, как особое сословие, они встречаются нам только с 444 г. Этот титул впервые был применен к Эзре; затем мы опять находим слово «книжник» в царском эдикте Антиоха III, в котором он предоставляет им, как и первосвященникам, свободу от податей; связанным же с совершенно определенным понятием мы находим этот термин впервые у Иисуса сына Сирахова; у этого автора обсуждается вопрос, позволительно ли книжнику, совместно с этим призванием, заниматься ремеслом. Позднейшие писатели, как мы увидим, отвечали на этот вопрос утвердительно; сын Сираха дал отрицательный ответ. Правда, он, безусловно, признает ценность и необходимость ремесла (без него, говорит он, нельзя построить города, нельзя ни жить на чужбине, ни путешествовать по разным странам). Но для политики, для правосудия, для нравственного воспитания других ремесленников, по Иисусу Сираху, не пригоден. Деятельность книжника направлена именно на то, чтобы исследовать мудрость прежних поколений, понимать речи пророков, хранить заветы знаменитых мужей, выяснять темные изречения и разгадывать смысл притч. Он должен быть известным при дворе и путешествовать по чужим странам, для того чтобы изучить хорошие и дурные стороны людей; но главная его задача в том, чтобы при своем звании сохранять благочестивый образ мыслей! Это древнейшее для нас изложение задач книжника чрезвычайно интересно. Ибо, хотя Закон Бога должен быть собственным объектом размышлений книжника, но для должного проникновения в этот Закон требуется от книжника не только объяснение буквы Закона из нее самой, но и очень глубокое знакомство со всей древностью, в особенности с пророками и историками и, кроме того, еще основательное знание людей, обогащенное сношениями с великими мира и путешествиями в чужие страны. Также и различение политической, юридической и этико-миссионерской деятельности книжника было впоследствии уничтожено к большому вреду для дела, так что смешение чисто юридических и этико-религиозных вопросов – политика, вследствие внешнего положения Палестины, пришла в упадок, – составляет тогда отличительный признак еврейского книжничества. Для Сирахова сына достоинство книжника, очевидно, прежде всего, проявляется в силе практического суждения, опирающееся на точное знакомство с древностью, и питаемая комментированием темных мест в Писании; эта сила суждения применяется в самых разнообразных жизненных отношениях и, естественно, своим высшим назначением имеет то, что она стремится способствовать осуществлению Закона Божьего при данных в каждом отдельном случае обстоятельствах. Сообразно с этим взглядом он и объединил плоды своей книжной учености в сборнике изречений. Это было для него совершенно новым предприятием лишь в том отношении, что он выпустил в свет свои изречения под своим собственным именем. Лицо, жившее, вероятно, раньше, изложило свою афористическую мудрость в сборник Притч Соломона. В этом последнем факте нет ничего удивительного для нас. Посильно возвеличивать прошлое еврейского народа, как можно шире распространять предание о нем – это всем казалось тогда чрезвычайно достойным начинанием. И кто бы ни предпочел прочесть лучше притчи Соломона, нежели какого-нибудь другого обыкновенного писателя! Это было одновременно делом скромности и педагогической мудрости, когда автор книги притч поставил во главе знаменитое имя Соломона. Он отказался от известности и славы, которая эта книга могла бы принести ему самому, для того чтобы она, как произведение мудрого израильского царя, находила себе доступ всюду. Рассмотрим несколько внимательнее эту книгу, прежде чем мы обратимся к произведению Сирахова сына.
В том виде, в каком эта книга дошла до нас, она составлена из нескольких частей, между которыми более поздние относятся к более ранним как прибавления. Первые две части обозначаются вполне кратко, как притчи Соломона; третья вводится, как сборник изречений, составленный при царе Хискии; четвертая содержит «изречения Агура, сына Янеха», а последняя – изречения, высказанные царю Лемуэлю его матерью. В действительности все части состоят из одних изречений, которые по форме и содержанию имеют в существенном один и тот же характер, так что, по крайней мере, время их происхождения для всех должно быть приблизительно одинаково, даже если признать, что последние части происходят не от того же автора, что первые. И едва ли мы ошибемся, если происхождение этих изречений отнесем только к описываемому нами позднейшему периоду еврейской истории. Как существовала у евреев определенная эпоха пророческой литературы, так у них существовала и определенная эпоха литературы притч. Ее этапные пункты – это Иисус, сын Сирахов, Иисус Христос, Пирке Абот в Мишне. Не с полной уверенностью можно присоединить сюда ветхозаветные изречения и псевдоэллинского Фокилида. Но, несомненно, то, что эта литература падает на период после создания Закона и до создания великого еврейского правового кодекса Мишны, который составлялся приблизительно с 150 г. по P. X. К началу ограниченной, таким образом, эпохи, во всяком случае, следовательно, относятся и притчи Соломона.
К этой только эпохе он и подходит по своей форме и содержанию. Их главным отличительным признаком является то, что вся житейская мудрость приноровлена в них к индивидууму. Народ Израиля, как ближайший объект Божьего милосердия, даже не упоминается; преподанные правила представляются имеющими значение не для одной только определенной, избранной Богом общины, но и для всех людей вообще. Это является чрезвычайно важным преобразованием древнееврейского воззрения, которое прокладывает себе путь со времени Иеремии и Иезекииля, а с 444 г. получило уже официальное господство. С тех пор отношение Бога к Израилю не представляется больше основой всей израильской религии; напротив, лишь отношение человека к Закону Бога, полученному евреями, конечно, посредством особенно милостивого откровения, обусловливает собою особенное отношение между отдельным человеком и Богом. Чем больше соблюдает человек Закон Бога, тем теснee связан он с Ним. Идея, получающая здесь такое яркое выражение, имеет сравнительно с древнееврейским религиозным воззрением то преимущество, что и не евреи, приобщившись к Закону, могли достигнуть того же спасения, что и Израиль; она дала затем толчок к тому, чтобы подвергнуть гораздо болee тщательному испытанию, чем прежде, личную жизнь индивидуума и именно вследствие этого усилить сознание обязанностей и сознание греховности. Но она имела и тот недостаток, что на место безусловного определенного, основанного на Божьей милости отношения между Богом и Израилем выступило шаткое, зависящее от нравственной работы человека, отношение Бога к отдельной личности. Конечно, этого не следует понимать в том смысле, будто евреи совсем забыли, что Бог завещал Своему народу милость Свою совершенно особенным образом. Напротив, мы встретимся еще, и с очень резким выражением этой последней идеи. Но для прежнего времени в этом круге мыслей высказывалась вся религиозная жизнь. Индивидуум едва думал тогда о том, чтобы быть чем-то особенным для себя лично; он хотел жить только как член народного целого. Теперь же приобрела для него значение его индивидуальная жизнь. Он хотел лично стоять в известном отношении к Богу и думал достигнуть этого тем, что исполнял завет Бога в своей особенной сфере; таким образом, наряду с первоначальной партикуляристической идеей в нем стала уживаться и идея универсальная. Если на единого Бога Израиля в течение продолжительного времени мог уповать только единый народ Израиля, то все-таки отдельные язычники могли исполнять те условия, при которых отдельный еврей мог рассчитывать на милость Бога.
Если эти соображения правильны, то уже из этого ясно, что не может косвенно или непосредственно происходить от Соломона книга, учение которой, рассматриваемое в целом, имеет задачею моральное устроение жизни индивидуума. Она относится к эпохе после торжественного принятия Закона при Неемии. То, что она имеет очень близкое отношение к Сираху, показывают другие черты ее. Так, прежде всего, мы нигде еще не встречаем здесь сознательного стремления к исполнению буквы Закона. О Законе, как о выраженной в Писании воле Бога, здесь вовсе не упоминается. Это, конечно, не может служить доказательством того, что Закон тогда еще не существовал; это только показывает, что автор нашей книги в существенном был еще свободен от влияния Закона в круге его идей. Все спе цифически-еврейское, как заповеди чистоты, законы субботы, жертвенное служение – обо всем этом почти ничего не говорится. В эпоху после Маккавейских войн в еврейском произведении такое умолчание не могло бы иметь места. Да и со времени этой борьбы за Закон показалось бы преступлением, если бы писатель хотел запечатлеть свои слова в памяти людей таким же точно способом, каким по предписаниям Второзакония должен быть запечатлен Закон Бога. Так, в одном месте говорится: «Блюди, сын мой, завет твоего отца и не отталкивай от себя поучений твоей матери! Постоянно держи их в сердце твоем и привяжи их к вые твоей!» В другом месте: «Сын мой, соблюдай мои слова и храни в себе мои заповеди. Соблюдай мои заветы, доколе ты будешь жить, и храни мое учение, как зеницу ока. Привяжи их к пальцу твоему и начертай их на скрижалях твоего сердца!» Если, таким образом, изречения составлены перед эпохой Маккавеев и после Эзры, то определение времени их происхождения получает еще устойчивую точку опоры в том, что часто говорится в них о царе, который, правда, сам не был израильтянином, но должен был, по-видимому, стоять к израильтянам гораздо ближе, чем когда-либо стояли восточные великие цари древней персидской монархии. Так, в одном месте говорится: «Горе царям, творящим неправду; ибо справедливостью укрепляется трон. Гнев царя – вестник смерти, но мудрец умилостивляет его. В ясном взоре царя лежит жизнь, и его милость подобна облаку, чреватому урожайным дождем». Затем сказано: «Подобен рыканию льва гнев царя, и как роса на траве его благосклонность». – «Отделяет преступников мудрый царь и затем проводить через них молотильную колесницу». – «Любовь и верность охраняют царя, и любовью укрепит он свой престол». – «Слава Господа в том, чтобы скрыть вещь, а слава царей в том, чтобы исследовать ее. Как небо в вышину и земля в глубину, так непостижимо сердце царей». – «Не хвастай перед царем и не занимай места вельмож. Ибо лучше, если скажут тебе: взойди сюда, чем, если склонять тебя перед князем, которого видели твои очи». Сюда же, наконец, относится изречение: «Если ты сидишь за одной трапезой с властелином, то помни хорошо, кого ты видишь перед собою. Ты вонзишь себе нож в горло, если ты жаден. Не зарься на лакомства его, ибо они – обманчивые яства».
Все эти цитаты заставляют предполагать более близкое отношение израильтян к царскому двору, чем оно обыкновенно было в персидской монархии. Если же мы в этих изречениях имеем дело с царями эллинизированных стран, то нам следует признать временем происхождения этих притч Соломона в эпоху господства Птоломеев.
И к этой эпохе примирения и слияния иудаизма и эллинизма эти изречения подходят чрезвычайно хорошо. Собственно религиозное в них совершенно поблекло. Правда, сборник начинается тем, что страх Божий характеризуется, как начало всякой мудрости; подчеркивается, что только Господь дает мудрость; настойчиво и резко призывается к религиозным добродетелям упования на Бога и смирения. Высоко ценит также автор изречений и религиозное терпение, которое вытекает из взгляда на зло, как на воспитательный прием Бога. Однако не следует вводить себя в заблуждение этой религиозной каймой. Жизненный идеал, который проповедуется здесь, конечно, выставляется, как угодный Богу, и все противоположное ему является преступным в очах Иеговы; но автор потерял ту теплоту, с которой древний израильтянин был привязан к Богу-хранителю своей страны, и не достиг того энтузиазма, который, например, в позднейших псалмах соединяет индивидуума с его Богом. Эта характерная холодность в его способе мыслить позволяет также автору притч Соломона отдаваться спекулятивным размышлениям о Боге. Именно в этой философии больше, чем где бы то ни было, обнаруживается влияние эллинизма. В несколько длинной аллегории, которая собственно совершенно чужда еврейству, выступает с речью мудрость и приглашает людей послушать ее. Дважды изображается она зазывающей в город с ворот, один раз выстроила она себе поддерживаемый семью колоннами дворец и приготовила пиршество; и вот она приглашает людей к трапезе. Но и глупость садится у входа своего дома, подымает шум, кричит и зазывает людей к себе, где и дает им гибельные советы. Но собственно умозрение проявляется в речи мудрости: «Господь создал меня, как первенца своего творения, еще до созданий своих, уже с давних пор. В древности возникла Я, с самого начала, тогда, когда создана была земля. Прежде чем были морские глубины, была я рождена, прежде чем были источники, полные воды. Прежде чем еще горы были возведены, прежде чем вершины поднялись, была я рождена; еще, прежде чем Бог образовал землю и море, и все возвышенности земного круга. Когда Он воздвиг небеса и сводами покрыл поверхности вод, я была там; когда Он укрепил вверху светлые облака, когда устроены были источники вод; когда Он поставил морю его пределы, для того чтобы вода не выступала из берегов, когда Он утверждал основы земли, тогда я была при Нем, как художник; тогда я день за днем была дитя Его радости и играла перед Ним во всякое время, я, которая играю теперь на окружности Его земли и радуюсь детям людей; внемлите же мне, сыны, и благо тем, кто блюдет мои пути!»
Бесспорно, мысль, что идеал нравственно нормированной мудрости руководил Творцом при Его творении, – прекрасна. Но если эта мудрость прославляется, как первенец среди Божьих созданий и как руководительница трудов Бога при построении мира, то здесь перед нашими глазами греческое понятие космоса, как совершенного мирового строя, выступает слишком отчетливо для того, чтобы не заметить чужеземного сотрудничества в этой ткани; и если нам говорят, что эта действовавшая при творении мудрость должна быть и руководительницей отдельного человека на его жизненном пути, то и здecь вполне ясно звучат известные доктрины греческой философии. Не надо только делать автора представителем законченного стоицизма или, – что было бы еще неправильнее, – платонизма. Из этих философских систем известные воззрения перешли сначала в греческий, потом в эллинизированный и, наконец, в еврейский мир, и вот мы находим их выраженными в нашей книге. В ней выступает перед нами в бесконечно-разнообразных проявлениях идея, которая совершенно чужда древнеизраильскому характеру, но которая с того времени, как весь народ обязался исполнять Закон, должна была приобрести могучее влияние на умы. Праведной жизни достигают обучением. Это обучение и воспитание в главном являются еще, конечно, задачей родителей, которой они не выполнят, если будут скупиться на розгу. Для родителей эта книга составлена как вспомогательное средство их педагогической деятельности. Вот почему слово «наказание (воспитание)» одно из самых употребительных в ней, и понятие воспитательного обучения всюду здесь резко выражено. Вся жизнь рассматривается с точки зрения педагогического учреждения. Бог воспитывает людей, а люди воспитывают друг друга. Но нигде сознательное воспитание народа не начиналось такими правилами индивидуального воспитания. Скорее эти последние всегда возникали только на почве наличных общих учреждений. Так и в Израиле жизненные правила изречений предполагают Закон уже существующим. Если его постановления нигде не выдвигаются, то это имеет то же основание, по которому в отделе ветхозаветного законодательства, обыкновенно для краткости называемом книгой священства (Priestercodex) отступают на второй план нравственные требования. В изречениях регламентируются области, не затронутые ближе законом, как, с другой стороны, в книге священства речь идет о служении святыне, а не об общих людских отношениях. Мы увидим, что позднейшая книжная ученость главным образом стремится к тому, чтобы подчинить особым правилам все оставленное без внимания Законом. Она только прокладывает к этому другие пути, пытаясь пополнить обильный пробелами Закон рассуждениями и заключениями по аналогии. По своей тенденции она вполне сходится с притчами Соломона.
Большое количество изречений трактует о том благословении, которое выпадает на долю праведнику, живущему сообразно с мудростью. «Праведные будут населять страну. Долголетие находится одесную мудрости, богатство и почести – оную. Пути ее – это пути блаженства, и все ее тропинки полны мира. (Если ты следуешь мудрости), ты безопасно пройдешь свой путь, и твоя нога не оступится; если ты ляжешь ко сну, ты не испугаешься, и когда ты опочиваешь, сладок твой сон. Ты не должен страшиться нападений на грешников: ибо Господь будет твоей опорой. Тропа праведника, как сияющий свет; он становится все ярче вплоть до полудня. Память о праведнике остается благословенной. Устам праведника внемлют многие. Ожидание праведника радостно. Охраной для невинности – путь Господа. Уста праведника глаголют мудрость, и слова его внушают любовь. Когда праведник счастлив, ликует город. Потомки праведника будут спасены. Праведник находит награду на земле». Как ни разнообразны перечисленные здесь благословения, выпадающие на долю праведника, все-таки нельзя скрыть одного значительного пробела в нем. Доколе народ Израиля представляется ближайшим объектом заботливости Бога, до тех пор потребности индивидуума должны быть отодвинуты на второй план перед попечением Бога о своем народе. Заботливость Бога не охватывала страданий и гибели индивидуума, так как Его откровение относилось не к этому индивидууму, а только к народу, как целому. Теперь этот взгляд исчез. Вполне естественно, что вместе с верой в заботливость Бога об отдельной личности предстала и мысль о продолжении этой охраны в состоянии смерти, короче – возник вопрос о продолжении жизни в потустороннем мире. Эллинское влияние поставило этот вопрос тем настойчивее, что платоновская философия давно дошла до такого момента веры (Федон). Однако наш автор, очевидно, отклоняет это расширение еврейского мировоззрения. Два места, которые объясняли, как веру в потустороннее продолжение жизни, следует понимать иначе. В одном из них высказывается только, что праведник избегает подземного мира, т. е. смерти, а другое место, в котором даже будто бы фигурирует совершенно чуждое для природного еврея слово «бессмертие», – очевидно, испорчено. Вознаграждение добрых и наказание злых, как категорически заявляется, происходит на земле; очень часто, как награда праведника представляется долгая жизнь, а это было бы невозможно, если бы писатель видел в смерти только переход от жизни, полной страданий, к жизни безмятежной и блаженной. Вообще, в этом случае мало можно вывести из отдельных мест, раз все жизнепонимание, взятое в совокупности, ничего не знает о потустороннем мире.
Тем не менее, наставления, которые здесь проповедуются, проникнуты по большей части глубокой мудростью. Эти афоризмы являются зрелым плодом богатого жизненного опыта, и этот жизненный опыт должен был упасть на тщательно возделанную почву, чтобы дать такие плоды. Идея самовоспитания постоянно выдвигается: «более всего, что ты оберегаешь, оберегай твое сердце. Если грешники хотят тебя обольстить, не следуй за ними. Не отклоняйся ни вправо, ни влево; удаляй от зла твои стопы. Пойди, ленивец, к муравью, посмотри на его работу и стань мудрым». Два раза рекомендуются обязанности по отношению к людям, вплоть до заповеди любви к врагам. Правда, в первый раз это требование обосновано еще очень своеобразно: «Гибели твоего врага не радуйся и не ликуй в сердце твоем, когда он падает, дабы Господь не увидел этого; дабы Он не был этим недоволен и не отвратил от него гнева своего». Здесь, значит, злорадство при несчастии врага запрещается, как неугодное Богу, но запрещается, таким образом, который показывает, что писатель сам не преодолел этого особого рода злорадства. Гораздо глубже проникает второе, относящееся сюда же место, которое получило права гражданства в христианской церкви, благодаря апостолу Павлу: «Если твой враг голоден, то накорми его хлебом, если он чувствует жажду, то напои его водой. Ибо раскаленные угли собираешь ты на его голову, и Господь воздает тебе за это». Здесь имеется в виду умилостивление врага посредством оказанной ему любви. Попутно в этих изречениях проявляется тонкая и умная наблюдательность. Несколько примеров могут подтвердить это: «Уже по поступкам мальчика можно узнать, будет ли чиста и праведна его жизнь». – «Западня для человека – необдуманно дать священный обет и, давши его, взвешивать». – «Приучай мальчика к его образу жизни и, когда он состарится, он не уклонится от него». – «Только изредка посещай дом друга для того, чтобы он, пресытившись тобою, когда-либо не возненавидел тебя». – «Холодная вода для утомленной души, так добрая весть из далекой страны». «Как птица, которая летит из своего гнезда, так человек, который бежит из своей отчизны». – «Кто скрывает свои прегрешения, тот не может быть счастлив; но кто признает их и не скрывает, тот находит сострадание». – «Кто дает бедняку, тот не испытывает нужды». – «О двух вещах я молил Тебя: не откажи мне в этом, прежде чем я умру. Лживость и слова обмана держи вдали от меня; бедности и богатства не давай мне. Дай мне вкушать мой насущный хлеб для того, чтобы, будучи слишком сытым, я не отрицал Бога и не сказал: „Кто такой Господь?“ и для того, чтобы я, будучи слишком бедным, не крал и не согрешил против Господа моего».

