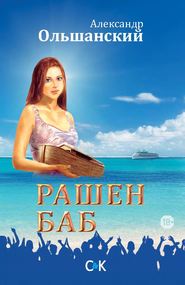скачать книгу бесплатно
– Повторяю: вас обрезали, как злостных неплательщиков. В этом случае за подключение к электросети вам надлежит заплатить сто тысяч рублей. Что ж тут непонятного?
– Всё непонятно. Поймите же, в конце-то концов, что я сельский учитель, зарплату нам не платят. Маленький ребёнок, жена не работает. Мы взяли взаймы, чтобы рассчитаться с чужими долгами. Чтобы заплатить вам, я вынужден даже сдавать кровь. Где я возьму ещё сто тысяч?
– А вот этого я не знаю, – поставила его на место служебная дама. – Вы же нашли вон столько денег, не найдёте ещё каких-нибудь сто тысяч? Вы же мужчина!
И тут взгляд Валентина Ивановича упал на её пальцы, украшенные перстнями и кольцами. Его осенило: выход есть! Он снял со своей левой руки обручальное кольцо и протянул его даме:
– Купите за сто тысяч.
Глазки у неё возгорелись, но и сомнения у неё были очень большие.
– А золото настоящее? – поинтересовалась она.
– Настоящее.
На всякий случай она ему не поверила, – ведь ходят тут всякие…
XIV
История с подключением к сети разрешилась самым неожиданным образом. К ним заехал Сергей буквально на несколько минут – оставить новые подарки племяннику и ехать дальше. По словам Лены, он рвал и метал, надел на ноги ремень, забрался на столб, подключил провода, хотя те и находились под напряжением. Валентин Иванович в это время был в школе, и в рассказе Лены он почувствовал лёгкое презрение к себе, как к недотёпе и к гнилому интеллигенту уже в первом поколении…
В самом деле – он же мог сам подключиться к сети. В школе есть даже резиновые монтёрские перчатки, почему же Сергей сразу нашёл выход, а он даже не подумал об этом, продолжая комплексовать? Однако презрение Лены, пусть и лёгкое, непроизвольное, пусть не презрение даже, а пренебрежение, пусть упрёк, нанесло ему неожиданно ощутимую обиду. Он настолько обиделся, что, не отдавая себе отчёта в том, что делает, выложил Лене всё сразу: о том, что Рита была плечовкой и болела СПИДом, что её убили, а кровь у них брали на анализ потому, чтобы проверить, не заболели ли случайно они, что он раз в две недели сдает свою кровь за деньги, что он даже решил продать за сто тысяч обручальное кольцо, но ему не поверили, что золото настоящее…
Потрясённая его откровениями Лена бросилась на шею, стала покрывать лицо поцелуями, называла его родным и любимым, плакала и просила прощения, оправдывалась тем, что она ничего не знала. Валентин Иванович стоял перед женой и не отвечал на поцелуи. Закрыв глаза и стиснув зубы, он молча плакал.
Спустя полчаса после бурной сцены он уже сожалел о своей исповеди. Она не принесла никакой разрядки, никакого облегчения, – ещё одно доказательство его слабости, неприспособленности к этой жизни. Какие такие планы он, слабак и никчёма, смеет строить на будущее? И это он решил продолжить дело Алексея Алексеевича здесь, в Стюрвищах? Не зря Рита не уставала ему твердить: разуй глаза, братишка!
Как он мог позволить Лене продать, пусть и не насовсем, прогулочную коляску, которую он, отец, даже не смог приобрести для своего сына?! Анна Иоановна советовала ему обратиться в суд на неправильные действия электросети, обещала поддержку, а он что? Как только услышал, какие нравы теперь в судах, что надо нанимать адвоката, составлять исковое заявление, искать свидетелей, так и отказался от самой мысли об этом. Опять же нужны деньги, и как бы история со светом не обошлась им ещё дороже, – ведь Лена унаследовала дом Аграфены, следовательно, и её долги. А при чём здесь он? Конечно, ждать не одну неделю судебного разбирательства без электричества в доме – удовольствие, прямо скажем, ниже среднего. Но всё равно не стоило опускать руки, нет, теперь он добьётся своего, пойдёт в суд. Что ж, теперь око за око, зуб за зуб.
И действительно, на следующий же день он попросил Анну Ивановну дать ему письмо в суд с просьбой возвратить ему деньги, несправедливо взысканные с него районной электросетью. Что и говорить, не был уверен в своей правоте, но в данном случае речь шла не о ней, а о его способности дать надлежащий отпор, постоять за себя и свою семью, быть мужчиной.
Тётя Маня без всяких уговоров подписала письмо о том, что Аграфена не платила за свет много лет. Другие соседи уклонились засвидетельствовать этот совершенно очевидный факт, но зато завуч Лилия Семёновна, которая жила совсем не рядом, а в другом конце деревни и, как здесь говорили, в казённом доме, без всякой его просьбы написала своё письмо для суда. Прослышав о том, что новый учитель собирает какие-то бумаги для суда, возле их столба объявился Петька-афганец. Он хотел, было отрезать вновь провода, поскольку факт незаконного самоподключения был налицо.
– А этого не хочешь? – спросил Валентин Иванович и показал ему топор.
Вид у него, должно быть, был самым решительным и даже свирепым, – Петька-афганец изменился в лице и, пробормотав: «Ну и ну!», ушёл восвояси.
Ещё одна надежда Валентина Ивановича не оправдалась: он всерьёз вознамерился разнообразить меню своей семьи за счёт рыбы, плавающей подо льдом славной речки Стюрвицы. Купил набор зимних мормышек, моток лески, сделал две зимние удочки, пробил на речке там, где была заводь, две полыньи – за весь день на крючки подцепилось два окушка. Не было у него ни мотыля, ни приличного прикорма, кроме того, не было и никакого рыбацкого опыта, – таков был и результат, ещё одно разочарование.
После сцены с исповедью Лена стала как бы роднее, заботливее и внимательнее к нему, однако, в то же время, в её поведении появилось нечто настораживающее. Как только Алёша выздоравливал, а он все эти месяцы много болел, она тут же начинала очень деятельно искать для себя возможность приработка. Казалось бы, только радоваться Валентину Ивановичу, когда она, оставив на него здорового Алёшу, уезжала в «рога и копыта», чтобы продолжить дело изготовления «семейных» трусов. Оттуда она возвратилась ни с чем, поскольку эта шарашка приказала долго жить, теперь там не ателье, а продают водку, и в то же время чем-то удовлетворённая. Объясняла она так: нашла ещё одни «рога и копыта», обещали дать надомную работу, предложили приехать через две недели. Когда же она уехала в назначенный день, то страшная догадка явилась к нему: Лена тоже продаёт кровь!
И точно – она вернулась бледная, озябшая, но с сумкой детских смесей. Он потребовал показать ему вены на руках – она спокойно ответила, что в этом нет нужды, да, она тоже сдаёт кровь.
– Лена, что же ты делаешь?! – закричал он на неё. – Алёша только-только перестал болеть! Ты же кормящая мать, какое же молоко будет у тебя, если ты сдаёшь кровь! Да будет ли оно у тебя после этого вообще?!
– Оно у меня и так не очень хорошее, – с убийственным спокойствием ответила она. – А Лёшу пора приучать к искусственному кормлению, переводить на детские смеси. Сейчас вообще многие не кормят грудью с первого дня.
– Без материнского молока из младенцев вырастают зверёныши! – взбеленился Валентин Иванович. – Тебе что, мало нашего проклятого детства? Одумайся, Лена! Умоляю тебя: ни в чём не отказывай Алёше! Мы обязаны сделать всё, чтобы детство у него было по-настоящему счастливым. Я для этого готов не только сдавать кровь…
Это было правдой – не только кровь.
После Нового года учителя намечали организовать в Москве пикетирование правительства, и его, как единственного мужчину, педагогический совет решил направить в столицу. А там Валентин Иванович замыслил не только сдать кровь, но и разыскать анатомический музей, которому, как ему подсказали знакомые на донорском пункте, можно продать свой скелет. Утаивать от Лены свой замысел не стал, убеждал её, что в этом нет ничего страшного, – живешь нормально, а потом, когда умираешь, твой скелет поступает в распоряжение музея.
– Давай лучше продадим телевизор, – предложила она без раздумий и тут же задала убийственный вопрос: – А ты подумал о том, что скажет Алёша своим детям, когда они спросят: «Папа, а где наш дедушка?» Он станет объяснять, что их дедушка не похоронен, а стоит в музее? Это же хуже, чем наложить на себя руки – самоубийц хоронят за оградой кладбища, но хоронят. А тут? Не по-христиански это. Мы и так прокляты своими родителями. Валька, родной, – Лена приблизилась, положила руки ему на плечи и, вглядываясь в глаза, с мольбой в голосе предложила: – Давай договоримся: я больше не сдаю кровь, а ты, пожалуйста, выбрось из головы дьявольскую задумку. Как-нибудь проживём. Договорились?
В глазах у Лены стояли слёзы. Валентин Иванович привлёк жену к себе, как бы закрыл своими руками, попытался оградить её, мать его ребёнка, свою любимую, от жестокой, несправедливой и чуждой им жизни.
Между тем поездки Лены на донорский пункт имели последствия – накануне Нового года она заболела. Рано утром тридцать первого декабря она разбудила Валентина Ивановича и сказала, что ей очень плохо, что болит левая грудь. Лицо у неё пылало – поднялась высокая температура, и Валентин Иванович побежал за врачом в Стюрвищенскую больницу.
Врач Вера Михайловна, пожилая, но не растратившая в нынешней жизни чувство сострадания, такая же, как и они, обездоленная сельская интеллигентка, осмотрев Лену, укоризненно покачала головой.
– Вас бы в больницу, дорогая моя, – произнесла она. – Только куда вам с такой крохой ложиться. Кроме мастита, у вас ещё и замечательный бронхит. Как же вы не убереглись? Сейчас эпидемия гриппа, если я вас помещу в стационар, то вы обязательно загриппуете. А этого вам только и не хватает. Да и что нынче представляет наш стационар? Лекарств нет. Причём, элементарных. Дожили…
Он сняла очки, поскольку они запотели, и Валентин Иванович увидел её глаза – серые и некрасивые, но мудрые и спокойные. Это были глаза безмерно уставшей женщины, добросовестно исполнявшей свой долг, о которой забыли государство и сильные мира сего, затеявшие беспримерный по жестокости эксперимент над несчастным народом. Реформы не отменили болезней, напротив, обострили их и оставили таких, как Вера Михайловна, наедине с ними, – без лекарств и даже без нищенской зарплаты.
«Это всё равно, что оставить на передовой солдат без боеприпасов и без пищи», – подумал Валентин Иванович. Сердце у него разрывалось от боли, – он жалел свою самоотверженную до глупости жену, а уж как было жалко Алёшу, теперь лишённого материнского молока… А Вера Михайловна неторопливо, казалось, уже вечность всё протирала очки и, то ли от старательности, то ли от невеселых мыслей, покусывала губы. Наконец она протёрла их, водрузила на нос и обратилась к Валентину Ивановичу:
– Супругу вашу надо лечить всерьёз. Само не пройдёт. Так будем лечить?
– Будем.
– Тогда доставайте лекарство. В данном случае не имеет никакого значения, что вам зарплату тоже не платят, – неожиданно жёстко сказала она, перейдя на тон, не допускающий каких-либо возражений. – Инфекции ведь не ведают, что у нас очень правильный курс реформ. Посему: сумели заболеть – извольте излечиться. Я выписываю лекарства, а вы сегодня же находите их. Сейчас я пришлю медсестру, она сделает укол, боль будет поменьше и температура. Когда вы убедитесь, что жена хорошо перенесла лекарство, – аллюр три креста в районную аптеку. Это лекарство там есть, купите на полный курс лечения.
Отправляясь в город, Валентин Иванович взял с собой все деньги, но, поскольку он не знал, сколько их уйдёт на кучу рецептов, выписанных Верой Михайловной, к тому же, надо было выкроить на детские смеси, от приобретения билета в автобусе воздержался. Как назло, тут же в автобус вошли две румянощёкие с мороза ревизорши и потребовали, чтобы он оплатил не только стоимость проезда, но и штраф.
– У меня нет денег, – отвечал он на все их притязания.
– Тогда мы отвезём вас в милицию.
– Везите, – безучастно согласился он.
Убедившись, что милиция его не пугает, ревизорши вздумали высадить его из автобуса. Но не тут-то было: неожиданно за него вступились незнакомые стюрвищенские женщины. Да как вам не стыдно высаживать человека посреди леса, кричали они, у него жена больна, он едет в район за лекарствами, – откуда они уже знали, что Лена заболела? Он же учитель, а им сейчас зарплату раз в полгода платят, какие у него могут быть деньги?
– Так вы учитель? – спросили у него ревизорши. – Да.
– Так что же вы сразу не сказали! – возмутились они. – Мы с учителей давно билеты не спрашиваем. Вы же хуже безработных, – тем хоть пособие платят.
– А я, дурак, всё время билеты брал, – признался он, чем вызвал в автобусе всеобщий смех.
Смех смехом, но веселья не было: такого унижения он давно не испытывал. Невыплата заработанного – тоже унижение, только к нему уже все притерпелись, короче говоря, к этому их уже приучили. Но когда ревизорши, зарабатывающие свой кусок хлеба на штрафах безбилетников, считают его, сеятеля разумного, доброго, вечного, представителем совсем нищей, с их точки зрения неприкасаемой касты, да ещё выговаривают ему при этом, что он скрывает свою принадлежность к ней и напрасно им головы морочит, – это было уже слишком. Он возмутился так, что, порывшись в карманах, достал деньги и потребовал у ревизорш билет. В автобусе ахнули от удивления, а один подвыпивший мужичок с заднего сиденья произнёс сиплым, прокуренным голосом:
– А теперь можно и пешком!
Но никто не засмеялся, – все увидели, как побледнел Валентин Иванович, когда он садился на своё место, как его стало трясти. Дрожали не только руки, но и ноги, стучали зубы, словно он промёрз до костей – и не было никаких сил справиться с этим. Первыми на помощь пришли ревизорши: по-бабьи жалостливо смотрели на его руки, пустившиеся в пляс, и всё спрашивали у него, не болеет ли он падучей.
– Н-н-не з-з-з-н-н-н-аю, – с невероятным трудом выдавил он из себя.
Ревизорши сунули ему в рот таблетку валидола, – кто-то из них на всякий случай был, наверное, при лекарствах, но всё равно их принялись отчитывать. Вот, мол, до чего человека довели. Да разве мы его довели, огрызались ревизорши, тут бери повыше, до Кремля. Молодой, а такой нервный, вслух удивлялись те, кто придерживался в перепалке с ревизоршами нейтралитета. У молодых как раз нервы и ни к чёрту, развивали они сами для себя эту тему дальше. То Афган, то Чечня, то либерализация, то прихватизация, – тут никаких нервов не хватит. Вот спросите у него, когда он последний раз получал зарплату, осенью хоть у дачников подрабатывал, а ведь дома жена и маленький ребёнок…
Он еле дождался конца злополучного рейса, выскочил первым из автобуса, забрёл в какой-то безлюдный переулок, отдышался там и успокоился, а потом пошёл искать аптеку. На лекарства денег хватило, осталось даже на пачку детской смеси, а дальше как?! На обратный билет денег уже не было, от одной мысли про автобус его опять едва не бросило в дрожь.
Как они надеялись на то, что наступит Новый год и всё у них пойдёт по-новому, конечно же, гораздо лучше, чем в уходящем. Он ёлку пушистую срубил, вместе с Леной мастерил из картона и фольги игрушки – если их не хватит, то в дело пойдут Алёшины пустышки-погремушки. Из фольги Лена должна была нарезать дождик… Ставить и наряжать свою первую в жизни ёлку решили тридцать первого декабря, чтобы до праздника не потеряла своей привлекательности, чтобы радость на праздник была полной и многообещающей…
А теперь он стоял на центральной улице районного городка, мимо него шли люди, озабоченные предновогодними хлопотами, ещё не растерявшими, как он, предпраздничных ожиданий и надежд на лучшее будущее. Он знал, что праздника у них с Леной в новогоднюю ночь не будет. Ёлку он поставит, украсит немудрёными игрушками и дождик из фольги нарежет, а ощущения счастья, на которое они так рассчитывали, у них не будет. От осознания этого ему стало невыносимо тоскливо и одиноко, хотелось завыть по-волчьи – даже в детстве он не испытывал такой щемяще-обидной ненужности, неприкаянности, обречённости на боль и страдания. Постоял он, постоял, справляясь с нахлынувшими на него чувствами, а затем направился в ювелирный магазин в надежде на то, что там купят его обручальное кольцо.
XV
Новогодняя ночь и последующие несколько дней для Валентина Ивановича были настоящим кошмаром. У Лены температура подскочила до сорока, находилась она как бы в полусознании – не в сознании и не в бреду, и только перед утром уснула, хотя он вначале подумал, что она потеряла сознание. Но ещё больше, чем за жену, он боялся за Алёшу – инфекция могла попасть в его организм через материнское молоко. Но, слава Богу, температура пока у него не повышалась. Но он всё время плакал, срыгивая детскую смесь и требуя материнскую грудь. Алёшенька, не плачь, родной мой сыночек, видишь, как наша мама заболела, успокаивал он малыша, прижимая тельце к себе и шагая по дому из угла в угол, пока не наступил рассвет. А утром у Алёши опять разболелся животик, Валентин Иванович то и дело менял пелёнки, с ужасом думая о том, что ослабленный детский организм не выдержит изнуряющего поноса.
Как ни странно однако, узнав о болезни Лены, к ним зашла Лилия Семёновна. Поздравила с наступившим Новым годом, принесла Алёше маленькую мягкую тряпичную собачонку, а затем вынула из сумки какие-то травы, сама заварила и заставляла Лену пить огненный отвар.
– Не бойтесь, у меня бабушка ведьмой была, – шутила завуч. – И внучку кое-чему научила.
Лена так ослабела, что без её помощи не смогла оторвать и голову от подушки. Губы у неё запеклись, лицо осунулось, скукожилось и постарело, глаза, и без того большие, стали огромными, болезненно сверкали. Дышать ей было трудно, ко всему прочему её давил сухой, дерущий кашель. Отхлебнув ведьминого зелья, Лена брезгливо отвернулась, прошептала умоляюще:
– Не могу.
– Нет, можешь! – перешла вдруг на ты Лилия Семёновна. – Не дури, а пей. И терпи. Пить надо как можно более горячим. Если чуть-чуть остынет, то потеряет силу. Сделаешь десять глотков – потом разотру бабушкиной мазью, выпьешь ещё десять глотков, укрою, и хворь начнёт выходить с потом. Пей, Лена, ты же видишь: Валентин Иванович опять почернел, Алёша плачет. Подумай о них, если себе добра не желаешь и не хочешь подняться на ноги. Знаю по себе – горькое, противнющее зелье, но через три дня забудешь про хворь.
И Лена уступила. Преодолевая отвращение и еле сдерживая рвоту она давилась дымящимся паром зельем, а Лилия Семёновна, как неуступчивый бухгалтер, считала их. Потом она раздела её и принялась растирать маленькими, ловкими ручками грудь и спину Лены, накрыла тёплым одеялом и вновь заставила пить бабушкино снадобье. Наконец она закончила свою процедуру, накрыла Лену ещё и своей шубой и велела ей спать.
– Валентин Иванович, и вы тоже прилягте, поспите хоть часок, я побуду с Алёшей.
– Нет, я схожу в магазин, – заявил он.
– Какой магазин – первое января!
– Ах да, – вспомнил он. – Магазины сегодня закрыты.
– Поспите, Валентин Иванович, вам ночью силы ещё пригодятся. А Алёшеньку давайте сюда, – протянула она руки, и Валентин Иванович отдал ей малыша.
Странно, но он и не пикнул в её руках. Может, его успокаивало её сюсюканье, или же он заинтересовался незнакомой тётей, однако, они сразу же поладили. Валентин Иванович бросил фуфайку на огромный Агафьин сундук, лёг и уснул под воркованье ведьминой внучки: у собачки боли, у кошечки боли, а у Алёшеньки не боли…
Он проснулся, когда окна были тёмными и испугался тишины. Соскочил с сундука, огляделся: Алёша посапывал в зыбке, Лена боком полулежала в постели и, измученная, улыбалась.
– С добрым утром, Валентин Иванович! – услышал он голос Лилии Семёновны.
Оказывается, пока он спал, Лилия Семёновна истопила печь, сварила обед, перестирала пелёнки, высушила и теперь гладила их. Проспал он и визит Веры Михайловны, которая осталась довольна Леной, сделала два укола и наказала ей продолжать лечение, не взирая на снадобья ведьминой внучки.
– Тебе получше? – спросил он Лену и приставил тыльную сторону ладони к её влажному лбу – страшного жара уже не было.
– Конечно, получше, – ответила жена. – Ты не представляешь, какая молодец Лиля. Из меня пот лил ручьями, она дважды меняла простыни, всё белье. Дышать стало куда легче… Спасибо тебе, Лилечка, если бы не ты, у меня и сейчас было бы под сорок.
– Рано говорить спасибо, – протестующе подняла руку Лилия Семёновна, недовольно посверкивая очками. – Когда окончательно станешь здоровой, тогда и говори. Кризис позади, но до спасибо ещё далеко. Завтра всё повторим, а сегодня ты ещё немножко потемпературишь.
– Опять, извини, жлоктить эту гадость? – взмолилась Лена.
– Нет, не эту. Ещё хуже, – пообещала завуч и распрощалась. Спустя три дня у Лены температура стала нормальной и, как предсказывала Лилия Семёновна, она поднялась с постели. Её шатало, всё плыло перед глазами, но, главное, она, пусть и страшно потрёпанная болезнью, могла ходить и даже что-то делать по дому, ухаживать за Алёшей. С Лилией Семёновной они подружились, и это радовало Валентина Ивановича, – всё-таки объявилась у них в Стюрвищах после Риты хоть одна близкая душа. Однако Лилия Семёновна не пришла к ним ни четвёртого, ни пятого января. Лена заволновалась, рассказала Валентину Ивановичу, где она живёт, и попросила сходить к новой своей подруге.
Завуч жила в однокомнатной квартире трёхэтажного совхозного дома, – она приехала в Стюрвищи ещё в те времена, когда молодых учителей в обязательном порядке обеспечивали жильём. Поднявшись на третий этаж и найдя нужную квартиру, Валентин Иванович нажал на кнопку звонка.
– Кто там? – спросила Лилия Семёновна, не открывая дверь. Валентин Иванович назвался.
– С Леной что-нибудь случилось? – встревожилась Лилия Семёновна, однако дверь по-прежнему не открывала.
– Нет, с Леной все нормально. Второй день на своих ногах.
– Так зачем же вы пришли? – На этот вопрос в другой обстановке Валентин Иванович ответил бы грубостью: неужели она думает, что его соблазняют её женские прелести?
– Лена беспокоится, попросила узнать, почему вы третий день не появляетесь.
– У меня грипп. Уходите отсюда немедленно, не дай Бог вирус подцепите. Уходите сейчас же!
– Как вы себя чувствуете?
– Что за глупый вопрос – как можно чувствовать себя при гриппе? Уходите из нашего дома – здесь все гриппуют.
Да, Лилия Семёновна, наверное, тоже из племени Алексея Алексеевича, думал он по пути домой. На её счёт он не обольщался – есть у неё свои недостатки, есть и достоинства – человек как человек. Но сколько времени это племя ещё продержится? Если бы жизнь была хоть в чём-то нормальной, не такой беспросветно безнадёжной и бездарной, как сейчас, оно бы держалось всегда. Сегодня оно держится только за счёт осознания и понимания своего долга – исключительно за свой собственный счёт. Однако всему есть пределы.
Валентин Иванович давно заметил, как в нём истончается слой доброты и порядочности, который нарастил в его душе Алексей Алексеевич. Нет, он не поддался всеобщему осатанению, устоял, не сломался, как Рита, однако почти за полгода жизни в Стюрвищах стал совсем другим. Не таким наивным, не таким неприспособленным к жизни, – это хорошо. Плохим было другое – все его чувства и ощущения, как ему казалось, не были больше острыми и яркими, борьба за выживание отупляла, огрубляла его и как бы из-под покрывала Алексея Алексеевича наружу прорывались злость, мстительность, а порой бессердечие и жестокость. От этого он, конечно же, не становился сильнее, а попросту опаснее для других, но которые принимали это за силу и твёрдость его характера. В действительности же борьба за биологическое существование расчеловечивала плод многолетних усилий Алексея Алексеевича, и Валентин Иванович не мог ещё сформулировать это, осознать то, что с ним началось, хотя интуитивно тревожился: с ним творилось что-то неладное и нехорошее.
Денег, вырученных за обручальное кольцо, хватило на пять дней. Лену надо было кормить полноценной пищей, а деньги совсем кончились. Собственное бессилие, неспособность обеспечить свою маленькую семью элементарным питанием, переворачивали душу Валентина Ивановича. Очередная сдача порции крови приходилась на четвёртое января, но, как назло, оно было объявлено выходным днём. Неужели теперь можно будет сдать кровь только восемнадцатого января? Крошечный холодильник «Морозко» был пуст, – как прожить эти две недели, как? На сколько хватит Алёше двух пачек детского питания? А ведь ему ещё нужны соки. Разве выздоровеет Лена на картошке да на грибах? Ей нужны белки, витамины, а где их взять?
Деньги, деньги, деньги… У Алексея Алексеевича они практически не знали, что они вообще существуют на свете. На детдомовских мероприятиях старшеклассники продавали гостям немудрёные поделки воспитанников, устраивали аукционы. Первые огурцы и помидоры созревали в детдомовских теплицах, – их, поскольку они были самыми дорогими, сдавали в торговую сеть, а затем они их ели, как говорили, от пуза. У них всегда было больше, чем им требовалось, картошки, моркови, свёклы… Излишки продавались.
Однажды у них был гигантский урожай капусты. Девать её попросту было некуда, и тогда Алексей Алексеевич бросил клич: «Квасить!» Бригады «капустников» даже освобождались от занятий, с утра до вечера они под руководством Ирины Степановны шинковали капусту и морковь, мяли и квасили в бочках почти месяц – шестьдесят тонн, целый вагон! Вырученные деньги пошли в общую кассу – на средства из неё для малышни покупались сладости и подарки именинникам, билеты в кино, приобреталась обувь и одежда выпускникам, те же электрические швейные машинки девчонкам.
Но там деньги были всё же частью общей игры, они не имели такого значения, как за пределами детского дома. Да и здесь они не так безраздельно правили жизнью, так, как сейчас, – никогда на Руси деньги не были целью жизни, никогда раньше презренный Мамона, злой дух стяжательства и наживы, не был богом, как теперь, и никогда он не собирал такую богатую нравственную дань. Есть у тебя деньги, – ты человек, а нет – ты ничто, и никто тебе не поможет. Всем ровным счётом наплевать на то, каким способом ты обзавёлся деньгами. Грабь, воруй, обманывай, насилуй, убивай, но будь при деньгах, а если честно станешь их зарабатывать, то будь готов к тому, что тебе их, вероятнее всего, не заплатят, – такого на Руси тоже ещё никогда не было…
XVI
Что и говорить, невесёлые думы думал Валентин Иванович, когда шестого января, в сочельник, опять пошёл на речку в надежде поймать хоть несколько рыбёшек. Опять у него не было мотыля, сколько-нибудь приличной привады, ловил на катышки хлеба да на белые личинки, которых вылущивал из стеблей растущего по берегам чернобыльника. Стояла оттепель, по всем канонам должна была клевать плотва, однако два красных поплавка в лунках оставались неподвижными. Он просидел час, два, а клёва всё не было. «Буду сидеть до тех пор, пока не поймаю на уху хотя бы для Лены, – решил он, – буду сидеть хоть до первой звезды…»
Он собирал чернобыльник, выколупывал из его стеблей личинки, бросал их в лунки, приваживая привередливую и осторожную рыбу. Безрезультатно. Тогда он стал мормышить, – и крючок за что зацепился, на нём затрепыхалась рыбёшка. Наконец-то хоть одна плотвичка валялась на льду и Валентина Ивановича охватил такой азарт, словно он надеялся поймать огромную царь-рыбу В порыве признательности он осенил себя крестом, подумав, что есть всё-таки Бог, не может быть такого, чтобы его вообще не было.
За полчаса он вытащил из лунки ещё трёх плотвичек, а потом – как отрезало. Должно быть, стайка подобрала всех личинок и уплыла восвояси. «Господи, ну в честь Рождества ещё хотя бы одну дай поймать, – умолял он всевышнего. – Уха от неё наваристее не станет – плотвички по пятьдесят граммов, но я уверюсь, что ты меня, мою жену и моего сына не оставил, что милостив к нам и великодушен. Клянусь: поймаю одну – сразу уйду, Господи, мне нужен твой знак, а не уха. Неужели ты не видишь, что я бьюсь, как рыба об лёд? Дай знак, и я окрепну духом…»
А мысль другая, страшная, тоже не давала ему покоя, и хоть ставить Создателю какие-то условия само по себе составляет большой грех, но он ещё и загадал: поймается ещё одна рыбёшка – не решится он, а нет – что ж, тогда на всё воля Божья. Он просидел ещё часа два, стало темнеть, но больше поплавки даже не шелохнулись. «Бог-то Бог, да сам не будь плох», – подумал он с ожесточением. И в этот миг он решился.
– В прошлый раз три штуки поймал, сегодня – четыре! – обрадовалась его успехам Лена. – Если так и дальше пойдёт, то мы всегда будем с рыбой.
Он промолчал. Поставил в печь чугунок, и пока он чистил картошку с морковкой и рыбу, вода в нём вскипела. Луку в доме не нашлось, зато от тётки Аграфены остался большой пакет лаврового листа. Отыскалось даже пшено – разжевал несколько крупинок, нет, не прогоркло, тоже можно бросать. Потомив готовую уху, посолил, ещё немного потомил, наконец, налил тарелку и поставил на стол.
– Ешь, пока горячая, – сказал Лене.
– Сейчас, только уложу Алёшу, – ответила она и понесла малыша к зыбке.
– Я покачаю, – отстранил он жену.