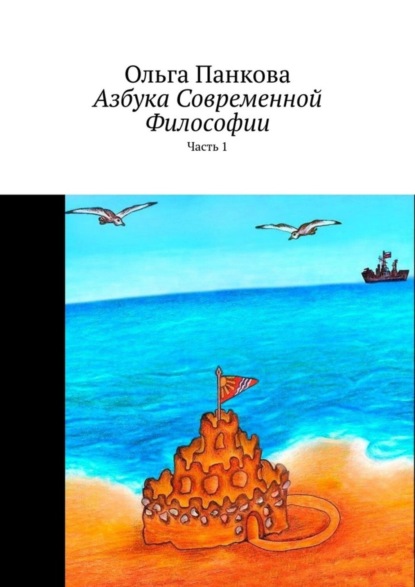
Полная версия:
Азбука современной философии. Часть 1
– У Меня всегда так.
Возвращаемся к Адаму и Еве?
– Да, конечно.
– Мы остановились на том, что Я, мысленно раскаявшись, задаю Адаму спокойный, мирный, а главное, наводящий на размышление вопрос: «Почему боишься Меня?» Адам в ответ начинает лепетать что-то про Еву: мол, они с ней где-то по саду гуляли, какого-то жучка увидали, тот их покусал… При этом он не забывает продемонстрировать Мне свой покусанный палец – как будто Я и без того не знаю, где они ходили, что видели и кто на них покушался. Да, жучок-то их покусал, по-детски лопочет Мне Адам, и тут-то они с Евой догадались, что жучка надо бояться, а заодно с жучком и Меня, потому что Я – большой-пребольшой! а теперь Ева ушла, а он сидит и ждёт, когда она вернётся, пока же рассматривает травинки, но жучков уже не трогает…
Речь Адама, равно как и его мышление, выглядела почти бессвязным бормотанием, но зато его страх – — был уже чётким, явным и очень осязаемым. Он был уже сформировавшимся, этот страх, если не сказать – . Моя Любовь с огромным сожалением подтвердила Мне этот факт. страх передо Мной осмысленным
– Да-а-а… Адам догоняет и перегоняет Еву, взлетев в моём антирейтинге на самую верхнюю строчку. Боже Мой! И об этом существе мы говорим как о первом мужчине?!
– Строго говоря, Адама нельзя считать мужчиной в полном смысле этого слова. Правильнее будет считать его человеком, ставшим мужским прообразом. Адам не был мужчиной потому, что не прошёл ещё тех земных испытаний, которые закалили, воспитали, сделали его таковым.
– Подожди-ка, подожди-ка, Господи, давай разберёмся. По Библии Ты дал Адаму жену и помощницу. С Евиной помощью мы разобрались: уж помогла, так помогла! Но это ладно, как говорится: «Каков поп, таков и приход». Но что означает слово «жена»? Это снова условная категория или на этот раз уже реальная? Другими словами, были ли у Адама и Евы отношения?
– Были.
– Супружеские?
– Да.
– Тогда о каком прообразе может идти речь? Значит, на познание собственной жены у Адама хватило и мужской силы, и мужского соображения, а когда настал черёд защитить её перед лицом превосходящей силы, так он сразу же прообразом прикинулся. Удобно, не правда ли? Очень «по-мужски». Трус несчастный – вот он кто! И образно, и прообразно, и по-настоящему. А что, скажи мне, по этому поводу говорит Твоя Любовь?
– Она говорит, что дело тут не в трусости. И Она права. Ведь кого обычно защищают? Того, кто слабее. А Адам, поверь Мне, не считал Еву более слабым существом. И передо Мной, и в отношении друг друга Адам и Ева считали себя равными. С таким же успехом, знаешь, можно было потребовать от Евы, чтобы она защитила Адама от Моего предполагаемого гнева. И потом, некоторые из Адамов были чуточку посмелее…
– А-а-а, я вспомнила: Адам был не один, их было гораздо больше. Тогда они тем более трусы – трусы в квадрате! Неужели ни один из так называемых мужских прообразов не догадался встать перед Тобой лицом к лицу, а жену поставить себе за спину – фигурально, выражаясь?! образно
– Да ты сама понимаешь, о чём спрашиваешь? Ты хоть осознаёшь, На такую смелость – – даже из современных людей мало кто способен! А уж от первых людей тем более не приходилось ждать ничего подобного: их страх, а точнее, их паника передо Мной была просто беспредельной! чего ты требуешь от первых людей? осознанно и в полный рост встать передо Мной лицом к лицу
– Ты уж прости меня, Господи, за прямоту, но это был не рай – это было какое-то сборище индифферентных неврастеников. Или, попросту говоря, сумасшедший дом, населённый паническими больными, не желающими выздоравливать.
– Согласен. Но изначально Эдем таким не был. Рай стал превращаться в сумасшедший дом только тогда, когда стал исчезать.
– Так лечить надо было Адама и Еву, лечить! Вся их страдальческая маета – исключительно от безделья. Лечится подобная «болезнь» очень простым, но эффективным лекарством: труд, труд и ещё раз труд. По три раза в день, до усталости, до пота, до изнеможения, – так, чтобы после работы сил не оставалось даже на мысли. Месяц-другой подобного «трудолечения», и я Тебя уверяю – всю их паническую дурь как рукой бы сняло! И не таких вылечивали.
– Именно так Я и поступил.
– Правда? А-а-а, так вот что означает библейское изречение: «в поте лица будете добывать хлеб свой и в муках рожать детей своих»! Ты большой молодец, Господи! Я просто восхищена Тобой.
– Я рад.
– Но что произошло с Адамом и Евой дальше?
– «Трудолечение», конечно, помогало, но «месяц-другой» – слишком малый срок для излечения. Кроме того, человеческая логика, как инструмент мышления, в отношении Меня зачастую оказывается бессильной, Я предупреждал об этом выше.
Шли годы, а человеческий страх передо Мной, обрастая новыми доводами и подробностями, не только не уменьшался, но крепчал. Люди упивались собственным страхом, купались в нём, холили и лелеяли его. Носясь со своим страхом, как с писаной торбой, новым полтинником, или только что снесённым яйцом, они не видели его опустошающего воздействия, не хотели признавать над собой его разрушительную власть, не желали понимать его глубоко деструктивную природу.
Тогда Я понял, что Мне ничего не остаётся, кроме как применить кардинальный способ избавления людей от страха – способ единственно верный, а потому действенный. И Я, при полной поддержке Моей несравненной Любви, избрал его.
– Этот способ состоял в изгнании людей из рая? Желая избавить Адама и Еву от страха, Ты прогнал их от Себя?
– Нет, Я их не прогонял. Из рая, как из состояния, никого прогнать или изгнать невозможно. Выйти из любого своего состояния, в том числе и из рая, человек может лишь сам – если захочет.
Способ состоял в следующем: Я закрыл первым людям видение Меня. В их зрении, как в органе чувств, Я заблокировал один маленький канал – тот, который идентифицировал, «видел» непосредственно Меня. Не спрашивай, как именно Я это сделал…
– Я и не собираюсь. Я понимаю, что люди, в том числе и я, не доросли ещё до этого знания. Но могу ли я спросить у Тебя, будет ли этот канал когда-либо разблокирован? Пусть не сейчас, а хотя бы в далёком будущем? Сможем ли мы когда-нибудь увидеть Тебя, Господи?
– Сможете. Не так скоро, как ты этого хочешь, но всё-таки сможете.
– Спасибо.
– Не стоит благодарностей.
Да, Я закрыл первым людям доступ к прямому видению, лицезрению Меня, но и только. Их дух, их частичка Меня, Моей Божественной Составляющей оставалась нетронутой и была в их полном распоряжении. Точно так же, как и раньше, дух мог служить людям для связи со Мной, мог свободно чувствовать, ощущать, Меня. Мог ли человеческий дух любить Меня? Мог, но ещё не любил, ибо там, где есть страх, Любви быть не может. понимать
Первые люди с облегчением восприняли Моё от них отдаление – на самом деле лишь кажущееся. И хотя Я по-прежнему был с ними рядом, они перестали Меня видеть, – а значит, им стало казаться, что Меня рядом нет. Мой мнимый «уход» сработал именно так, как было нужно: человеческий страх передо Мной мало-помалу стал ослабевать. До полного его исчезновения было ещё очень и очень далеко, но первые люди уже вздохнули свободнее, а их поступь по земле стала выглядеть куда более уверенной. Их вовлечённость в земные, материально-физические дела росла в геометрической прогрессии, в то время как их одухотворённость, их духовная свобода слабели на глазах, уменьшая для них свою значимость.
Вот так первые люди, Адам и Ева, оказались за пределами рая.
Их осознанная связь со Мной практически прервалась, почти целиком перейдя в сферу бессознательного. Я не настаивал на её возобновлении. Я не хотел снова их пугать. Я ждал, когда они повзрослеют; надеялся на их благое и правильное развитие; помогал им во всём, оставаясь для них невидимым; а также чутко прислушивался к сигналам их духа – как осознанным, так и неосознанным.
Несмотря ни на что, первые люди помнили Меня. Они не забывали, Кем Я для них когда-то был – их Творцом, их Защитником, их Наставником, их Другом. Страх всё ещё владел ими, но порою на его месте стали проскальзывать совершенно новые, незнакомые доселе чувства: светлая грусть обо Мне, сожаление об утрате нашего единства и глубокое раскаяние в потерянном ими рае.
Б
Богодейство
Со времени сотворения и до настоящего момента человечеству удалось незаметно, но весьма ощутимо подрасти. И хотя процесс общечеловеческого роста неуклонно продолжается, до настоящего взросления людям ещё очень и очень далеко. В нашем, XXI веке, люди по своему возрастному самоощущению всё ещё остаются форменными детьми, возраст которых можно охарактеризовать как ранне-подростковый, тинейджеровский.
Почему я утверждаю именно такой ментальный возраст современного человечества – очень юный, совершенно беспечный и очевидно несмышлёный, хотя уже и с некоторыми проблесками осознанного понимания? Оснований, дающих внятную картину возрастного самоощущения человечества, два: это отношение людей к Богу и взаимоотношения людей между собой.
Рассмотрим эти основания подробнее.
Как только речь заходит о Боге, о Божественном, взрослые люди начинают вести себя подобно шестиклассникам, пришедшим на первый в своей жизни урок алгебры. «Сели, успокоились, перестали ёрзать, возиться и шептаться, – говорит таким шестиклассникам строгий учитель, – все смотрим только на меня и внимаем каждому моему слову. То, что вы изучали в начальной школе, было лишь введением в математику – сама математика начинается здесь и сейчас. Каждый из вас, кто будет слушать меня недостаточно внимательно и пропустит хотя бы одно определение, может смело ставить крест на дальнейшем понимании науки, которую неспроста именуют ». Естественно, после таких учительских слов затихают на задних партах непоседливые двоечники, втягивают головы в плечи унылые троечники, приободряются честные хорошисты и внутренне концентрируются примерные отличники. Шестиклассники, искренне желая понять новый предмет как можно лучше, возлагают огромные надежды на учителя – как на того, кто по определению разбирается в предмете больше, чем каждый из них. царицей всех наук
При этом детское мышление не способно допустить мысль о том, что взрослый человек тоже способен на ошибку. Тем более, если взрослый, подобно описанному выше учителю, строг, выдержан, уверен в себе и говорит умные слова. Но на самом деле взрослые точно так же не застрахованы от ошибок, как и дети, в данном случае – от ошибочности своих суждений. Известны случаи (и я – первейший из них), когда дети всю среднюю и старшую школу ни бельмеса не смыслили в математике, ухитряясь кое-как вытягивать предмет на четвёрку – не иначе, как чудом, а выпускной экзамен сдавали на высший балл, за полгода изучив и поняв всё, что остальные проходили за несколько лет.
Бог – не математика, скажут мне. И добавят, что в случае с Богом пример шестиклашек и строгого учителя является, как минимум, несоответствующим теме обсуждения.
Бог – в том числе и математика, отвечу я. Поэтому пример как нельзя лучше подходит к данной теме. Шестиклассники – это современное человечество, заглядывающее в рот каждому, кто провозглашает что-то новое. Строгий учитель – это тот, кто берёт на себя дерзость (или смелость, или вольность, или обязанность, или компетентность) учить людей, как именно следует понимать и принимать Бога, как относиться к Нему, как любить Его, какими словами и как часто выражать эту любовь, в каком месте и с какими внешними атрибутами.
При этом хочется заострить внимание читателей на том, что под таким дерзновенным учителем отнюдь не подразумевается Церковь. Наша Церковь – Русская, Православная – это, скорее, стены школы и стены кабинета математики, в рамках которых действует упомянутый выше учитель. Я абсолютно искренне считаю, что – как те стены кабинета математики, на которых в изобилии вывешен методический материал: таблицы с формулами и графиками, а также портреты отцов-основателей математической науки. Православная Церковь в своём непрестанном взаимодействии с Богом достаточно убедительна сама по себе, без бурных демагогий и ярых провозглашений, и способна внятно рассказать о Нём, даже не произнеся ни слова,
Дерзновенный учитель в данном случае – это каждый из тех, кто провозгласил себя пророком, проповедником, мессией, спасителем, благодетелем, помазанником Божьим, вторым пришествием Христа, гласом Бога на земле, и так далее, и тому подобное.
Является такой, прости Господи, «спаситель», точнее, соизволяет вдруг открыть рот и сказать что-то, что начинается со слов «Покайтесь, люди, пока не поздно!», и всё – люди, что называется, «поплыли». Они тут же приходят в неописуемое восхищение, начинают ходить за «спасителем» по пятам, заглядывать ему в глаза, прислушиваться к его словам, согласно кивать – речь, боюсь, идёт уже не о разуме шестиклашек, а о разуме собаки, которая всё понимает, но ничего не говорит.
И всё бы было ничего – в конце концов, настоящее, истинное покаяние ещё никому, никогда и ни в чём не вредило, – если бы не аппетиты такого самопровозглашённого «спасителя», начинающие расти не по дням, а по часам. Как правило, аппетитов у «спасителей» много, и они достаточно разнообразны.
В первую очередь растут аппетиты финансовые, ибо ни один «спаситель» никого даром не спасает. Как, вы не знали, что спасение мира – это тяжкий труд? Между прочим, эта работа является гораздо более изнурительной, чем все президентские должности, вместе взятые! А если эта работа так тяжела, разве справедливо отказывать «спасителю» в оплате его нелёгкого труда по «спасению» мира? Конечно, несправедливо! Любой труд должен быть оплачен, и точка. По какому тарифу происходит оплата «спасительного» труда, спросите вы? По самопровозглашённому. Нигде, понимаете, ни в одном КЗОТе не прописано, сколько должен зарабатывать «спаситель», поэтому сколько скажет, столько и должен. Именно для этого и создаются многочисленные религиозные (а по сути – ) объединения, общества, секты, группы и партии: – . При этом конечное назначение заработанных денег может быть абсолютно любым – от зарплаты самого «спасителя» до издания брошюр, расписывающих в красках будущую историю «спасения». , в данном случае услуг по «спасению» мира. псевдорелигиозные их главная цель заработать Предметная разнонаправленность денежных трат отнюдь не отменяет сути возмездного оказания услуг
Далее у «спасителя» начинают расти аппетиты амбициозные: посмотрите, мол, кто стоит перед вами – сам «спаситель»! Амбиции толкают «спасителей» туда, где реализовываются такие стремления человека, как тщеславие, эгоцентризм, властолюбие, стяжательство и так далее. Если реализация человеческих амбиций происходит с именем Бога на устах, это позволяет «спасителю» с поистине громадным воодушевлением сметать на своём пути все преграды и препоны: создавать общественные ячейки имени себя, привлекать армии последователей, назначать учеников, прорываться к трибунам и к микрофону, и в конечном итоге стремиться к свержению всех, кто препятствует миссии «спасения».
Тем временем, пока «спаситель», он же строгий учитель, реализует свои весьма далёкие от учительских амбиции, а также пытается путём повышения своего материального благосостояния «спастись» сам, человечество, они же детки-шестиклашки, оставшись безо всякого надзора, творят, что хотят.
Родители начинающих активно взрослеть детей меня поймут: подростки под присмотром и подростки без присмотра – это две большие разницы. И если школа во время урока напоминает собой некий сказочный Наукоград, то на перемене она превращается в дикие прерии, населённые неприрученными неандертальцами и необъезженными мустангами.
Не верите? А вы поинтересуйтесь у своего ребёнка, как проходят его школьные перемены – и получите полное представление о том, чем в целом занимается современное человечество.
Ваш честный отпрыск ответит вам примерно так: «На переменах мы балуемся, шалим, дурачимся, не думая о последствиях; третируем тех, кто послабее, и лупим тех, кто лупит нас; портим школьное имущество и учебные пособия; скачем по партам, качаемся на дверях, кидаемся портфелями, учебниками и мелом; ругаемся, плюёмся, орём и кричим; поём песни, кто во что горазд, хохочем, как ненормальные, и ревём белугами, если обидели. Пол под нашими ногами трещит, стены шатаются, с потолка сыплется штукатурка. Цветы в горшках стараются слиться с подоконником, дабы их не заметили и не скинули на пол, а портреты великих писателей и поэтов, развешанные по стенам, в ужасе закрывают глаза, не в силах смотреть на нашу дикую вакханалию. Даже само здание школы ходит ходуном, грозя развалиться с минуты на минуту. Но тут перемена кончается, и в класс заходит учитель. Буйное стадо необъезженных тинэйджеров снова превращается в группу послушных шестиклассников; все рассаживаются по своим местам и начинают слушать урок, по мере сил и разума внимая преподавателю. Потом снова наступает перемена, учитель покидает класс, и с его уходом вновь возобновляются дикие пляски незнакомых с цивилизацией аборигенов. Периодически самые умные, памятливые и совестливые детки, косясь на подглядывающие портреты великих писателей и поэтов, пытаются угомонить своих собратьев, приводя им в пример слова учителя о том, что такое хорошо и что такое плохо, но такие уговоры помогают мало. Свои же одноклассники для большинства подростков неавторитетны; авторитетом является лишь строгий учитель, а он в классе сейчас отсутствует, поэтому можно делать всё, что хочешь. «Кот на крышу – мыши в пляс».
Точно такую же позицию – позицию оставленных без присмотра шестиклассников – заняло и нынешнее человечество. В современном мире никто ни за что не отвечает, все озабочены лишь тем, чтобы удовлетворить свои сиюминутные потребности; каждый временной отрезок воспринимается как последний миг жизни, из которого надо выжать максимум возможного и невозможного; в серьёзные проблемы никто не вникает по причине общей несмышлёности и бессмысленности данной затеи: зачем вникать в то, во что никто вникать не обязан? Для того чтобы решать проблемы, существуют взрослые – вот пусть сами с этими проблемами и разбираются. А мы – дети, наше дело – баловаться. И после нас – хоть потоп! Но даже потоп не является поводом для печали: всё устаканится – как-нибудь, когда-нибудь и кем-нибудь, но – в том числе и разруха, которую мы совместными усилиями тут учинили. не нами,
Вот он – настоящий возраст современного человечества. 11—13 лет – возраст начинающих взрослеть юнцов, подвластных бурным гормональным всплескам и потому взбалмошных до крайности. Тело стремительно ударяется в рост, а сознание всё ещё остаётся детским, и что делать в такой разбалансированной ситуации, не знает ни сам подросток, ни его родители.
А если подростком является целое человечество – что следует предпринять тогда? При этом, говоря об общечеловеческом возрасте, следует понимать, что этот возраст обозначен как внутренний, ментальный, самоощущаемый – он не доказан и не опровергнут, потому что является ощущением, чувством, а чувства сложно чем-либо подтвердить, в них можно лишь поверить, – но он ярко и заметно проявляется в каждой мысли, в каждом слове, в каждом жесте и в каждом поступке человеческого большинства.
Таким образом, повторюсь, что же делать? Ясно, что: пора начинать взрослеть. Сей факт человечеству придётся сначала осознать, а затем и осуществить – рано или поздно. Это такая же неизбежность, как, например, следующий полёт человека на Луну или покорение территорий Марса. Но, по аналогии с освоением Космоса, вопрос не в том, чтобы сидеть и ждать наступления подходящего времени – , а в том, чтобы предпринять какие-либо действия, позволяющие этот процесс – запустить самим. А если этот процесс уже запущен, что с большей долей вероятности сейчас в мире и происходит, то его следует упорядочить, ибо люди слишком заигрались, забаловались, увлеклись текущим моментом. Детские шалости и баловство в контексте всей жизни не имеют особого значения – важно уметь вовремя остановиться, преодолев в итоге свой трудный возраст с наименьшими потерями. времени взросления процесс человеческого взросления –
Но каким же образом можно упорядочить процесс человеческого взросления или даже ускорить его? Что конкретно нужно для этого делать? Ответ прост: нужно не подготавливать себя к взрослой жизни, не планировать её бесконечно, не заниматься оторванным от реальности аутотренингом, убеждая себя, что вот, мол, когда я вырасту, я буду вести себя так-то и так-то – нет, здесь действовать нужно иначе. Чтобы жизнь не превратилась в вечную подготовку к жизни, необходимо прямо здесь и прямо сейчас не захотеть стать взрослым, а стать им на самом деле.
Почему бы нам не позволить себе немного помечтать? Давайте на минуту представим, что человечество внезапно, общно, разом и каким-то чудом повзрослело. Разумеется, человечество – не барон Мюнхгаузен, но, допустим, оно сумело взять себя за шкирку, встряхнуло свой организм так, что зубы застучали, и мощным усилием воли вытянуло себя из засасывающего болота ленивого потакания собственным слабостям на твёрдый берег решительного и зрелого самоконтроля.
Возникает главный вопрос: какими аспектами мышления, принципами поведения и оттенками чувств охарактеризовалось бы новое, человечество? повзрослевшее
Основная черта взрослого мышления – это понимание человеком высокой степени собственной ответственности, а затем и распространение этой ответственности на всё и всех, с чем и с кем ему приходится иметь дело.
Если применить возмужавшего человечества к обстановке, сложившейся в современном мире, то сразу же обнаружится несколько совершенно очевидных, бесконечно важных, да и просто любопытных моментов. ответственное мышление, взрослое поведение и зрелые чувства
Современный мир представляет собой вполне устойчивую и прочную конструкцию. Да, имеет место определённый дисбаланс сил, существуют неровности материально-финансового слоя, наблюдаются шероховатости общественного устройства и некоторые перекосы человеческого сознания, но в целом мир довольно-таки устойчив. И такой ерундой, как грядущий апокалипсис, его не напугаешь – тем более, если апокалипсическое нагнетание обстановки тщательно спланировано, поставлено на конкурентный поток и направлено на личное обогащение тех, кто об этом апокалипсисе планомерно и регулярно сообщает, вещает и пророчит. Первое.
Если от кого и надо спасать этот мир, то в первую очередь от самих «спасителей». Это до какой же степени нужно было отравить общественное сознание систематическими напоминаниями о грядущем ужасе, чтобы общество готово было доверить миссию по своему спасению кому угодно?! Вот просто первому попавшемуся, тому, кто в данный момент подвернулся под руку: от необразованных до уровня простейшей языковой безграмотности интернет-блогеров до героев комиксов – всех этих «человеков-тараканов», «людей-деревяшек» и прочих существ на букву «ч», что означает «чудики»? Второе.
Вообще, с какой стати человека должен спасать кто-то другой? Может, уже как-то попробовать Почему человек разрешает себе не человеческое, а овечье поведение: сбившись в стадо, пасётся на лужайке, блеет, брыкается и развлекается, а сам при этом незаметно, но бдительно следит за пастухом – позволяет он все эти действия или не позволяет, наблюдает или отвернулся, ? Что это за человеческая манера вечно пугать себя строгим папой, который – ай-яй-яй! – скоро придёт с работы и пожурит за все проказы, а вдобавок ещё и сладкого лишит? Неужели людям самим ещё не надоело всё время принижать своё человеческое достоинство, ущемлять своё стремление к взрослой самостоятельности, к ответственной свободе? Не надоело прятаться за собственной зависимостью от всего на свете, а в первую очередь – за Третье. осмелиться спасти себя самому? пасёт или не пасёт зависимостью от своего желания быть зависимым?
Ну, хорошо, предположим, человек понял, что должен спасти себя сам – он твёрдо решил повзрослеть и потому осознал свою личную ответственность за всё, в том числе и за собственное спасение. Но он не имеет ни малейшего понятия, как нужно спасаться – может ли он в таком случае хотя бы проконсультироваться (так и хочется добавить: за дополнительную плату в рамках действующего прейскуранта цен) с каким-нибудь «спасителем»? Попросить совета о том, с чего следует начинать собственное спасение, как его продолжать, что делать, чего не делать и так далее? Конечно, может. Но в этом случае он должен чётко осознавать, что его взросление – мнимое, ему лишь показалось, что он повзрослел, на самом деле это далеко не так. Четвёртое.



