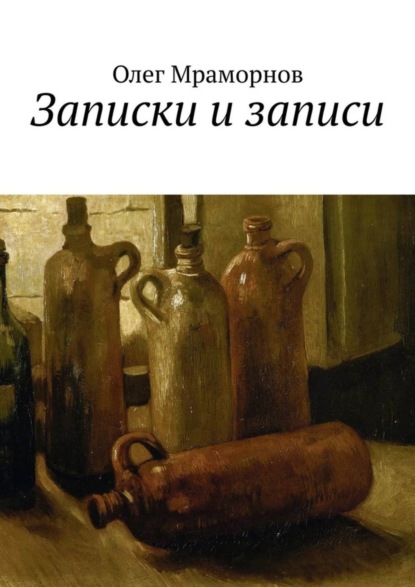
Полная версия:
Записки и записи
Поехали к Вадимчику. Жили они с Любчиковой в новостройках, в Конькове; в полупустой квартире практически без мебели выделялось чёрное пианино, на котором музицировала горбатенькая Лида Любчикова, однажды я её слушал. А писателем был не Вадимчик, а его друг русоволосый высокий Веничка Ерофеев. В помятом сереньком пиджачке нарисовался он впервые передо мной из тёмного угла, поднявшись с напольного матраца. Потом мы весёлой компанией расположились выпивать на кухне. Слышал я о его подпольной поэме «Москва-Петушки», посвящённой «первенцу» Вадиму Тихонову – этому самому Вадимчику, к которому мы пришли, но саму поэму не читал. Грабчук обещал дать почитать, но пока не получалось. Игорь считал Ерофеева выдающимся писателем и с ходу начал расшаркиваться перед вернувшимся с заработков из Средней Азии сочинителем. «Веничка, Веничка! А как ваш «Шостакович»? Веничка (я его в лицо так не называл – я обращался к нему «Венедикт», ибо он меня старше на целых четырнадцать лет) пятернёй расчесал спадающие на бок длинные волосы, отряхнулся, выпил залпом стакан портвейну, затянулся беломориной, приняв безмятежно-спокойный вид. Кажется, его заинтересовало, что на филфак я приехал с Дона – ведь он тоже приехал издалека, поступив на филфак с Кольского полуострова, но учился у нас недолго. Он был пластичен и мог себя подать. И загалдели, загалдели. Авдиев подошёл с тяжёлой от вина сумкой, и я попробовал вставить слово – похвалить недавно прочитанный в самиздатском журнале этюд Ерофеева о Василии Розанове. «Ерофеич их всех уроет! Дерзай, Ерофеич, твори! Кто, кроме тебя, продолжит эту… литературу нашу грёбаную, русскую, великую!» – замасленный Тихонов брал бразды в руки, становясь председателем пира. Вот он потряс снятой с дверной ручки красной матерчатой авоськой и выдал тираду, что в этой вот никчёмной сетке хранилась рукопись бессмертного романа «Шостакович», но теперь её нет. «Где же она?» – вопросил Грабчук. «Потерялась, найдётся», – меланхолично отреагировал Веничка.
Он пьянел, но сохранял ровную связность речи, артистично подпуская матерок. Оборотился в мою сторону и пытаясь вспомнить, что перед ним за юнец с филфака, стал излагать историю с написанием своих заметок о Розанове. «Говорят, Ерофеев не патриот – я ещё какой патриот! Володю Осипова в этих делах не проведёшь…» История заключалась в том, что издатель национал-патриотического самиздатского журнала «Вече» Владимир Осипов запер Ерофеева под ключ, никуда не выпускал, приносил курево и еду и пообещал хорошо угостить напитками лишь после того, как автор выдаст готовый продукт. Сработало. Очерк о Розанове у Ерофеева получился.
Эти люди всё выворачивали наизнанку, балаганили и открыто презирали официоз – и литературный, и житейский, опираясь на придуманную Ерофеевым алкогольную философию. Венедикт с Тихоновым большие хохмачи и прикольщики, по Москве они и теперь выступают. Философия их такая: прийти в дом вроде как на литературное чтение, выпить на дармовщинку, поговорить о высоком, а под конец руками шута Тихонова или ещё кого-нибудь устроить скандальчик. То есть стянуть со стола скатерть с вином и закусками, встать в позу, сгустить социальные мерзости, хлопнуть дверью перед обуржуазившимися хозяевами: вольные бродяги, свободные художники, мы вам не чета. Хохмачество, в придачу к выпивке. Обязательно, чтобы была выпивка, – бесконечная, с розыгрышами, карнавальная. первенцем
Галдели они, галдели, притихли. Ерофеев завёл литературный разговор: Николай Гоголь, Иван Тургенев, Николай Некрасов… И потом снова взахлёб хором: о славном городе Владимире, с которым все они были связаны, о том, как Венедикта турнули с филфака, как его, гонимого бесприютного бродягу и странника, навещали Сергей Аверинцев и Борис Успенский. У них начинался междусобойчик, и Грабчук потянул меня за рукав: мол, пошли, а по дороге стал рассказывать, что Веня без документов, без паспорта, всё потерял, что за ним след…
– Могли накрыть.
– А нам-то что с тобой, нам-то что – мы с документами. Да и что мы с тобой за козаки, когда бы устрашились? – добавил Грабчук, не ссылаясь на Хому Брута.
А Тихонов сел мне на хвост, разыскал меня в общежитии, не знаю как, когда я приболел и валялся в койке с температурой. «Надо бы полечиться», – говорит. У меня было немного денег – он всё у меня выскреб на портвейн. Тут же, у одра, распивали. Серж подсаживался, но вскоре ушёл – у него на уме девки; Юрочка пофыркал недовольно – он занимался, тоже встал и ушёл. Тихонов толок-толок воду в ступе, у меня поднималась температура, я осоловел и не помню, как он исчез с последними моими деньгами, хотя намеревался на мои же гроши дальше меня угощать.
Доскажу, что помнится в этой связи.
У Грабчука приближалась свадьба, и месяц был свадебный – октябрь, захолодало. Игорь говорит: надо последний раз перед свадьбой гульнуть (никакой свадьбы в результате у них с Леной не было – просто расписались, взяв свидетелем одного нашего общего друга), поедем в Медведково, там компания. Поехали по осенней погоде на окраину: две сестрички-сибирячки подают закуску и выпивку. То есть они были не медсёстры, а настоящие сёстры, то ли снимавшие двухкомнатную квартиру, то ли ею владевшие. Все, и сестрички тоже, вьются вокруг неподражаемого Венички, – там его культ, который Ерофеев, с его артистическим обаянием, умел поддержать. О произведениях Ерофеева судачили постоянно, но в каком-либо виде увидеть их было невозможно. Я не случайно гордился тем, что имел экземпляр машинописного «Вече» с ерофеевским этюдом «Василий Розанов глазами эксцентрика», который мне перепал на даче одного подпольного художника. Все свои произведения, и в машинописи, и изданные на Западе и ему кем-либо переданные, Ерофеев терял, забывал по ночёвкам или в транспорте: он был принципиально бездомен и безбытен. Писатель-бродяга. И вот снова бесконечно мусолили, где он мог потерять рукопись «Шостаковича», была ли она действительно в той красной авоське, а, может, у Игоря Авдиева, в какой авоське, в какой сумке, а не видел ли её кто у Свиридкина…
Пьянка на сей раз была затяжная, начавшая до нашего с Грабчуком приезда. Они с Ерофеевым пообсуждали любовную лирику римских поэтов, писатель-собутыльник высказывал осведомлённость, но Игорь женихался и к ночи уехал, а я, изрядно выпив, остался. Сестрички, повизжав, заперлись в своей комнате, в наличии остались Ерофеев, Тихонов и я. Тихонов сопел в углу на топчане, Веничка валился со стула, кое-как я помог ему дойти до того топчана и лечь рядом с первенцем, сам же отправился на кухню, ближе к воде из-под крана, и, подложив под голову куртку, лёг прямо на пол. И ведь уснул, попил водички и спал. Проснулся на чужой кухне, когда в окнах брезжил серый рассвет и подивился, что сестрички уже успели помыть посуду. Квёлые приятели решали проблему опохмелки. Мы наскребли вскладчину немного денег. Тихонов отправился искать – вероятнее всего было взять водку у таксистов, магазины были ещё закрыты. Ерофеев отрешённо возлежал на топчане, время от времени произносил строчки из Северянина, а я листал попавшуюся под руку хрень. Вышли из своей комнаты сестрички, миролюбивые, свежие. Веня встал, пробовал острить на предмет их завлекательной интересности, они захихикали, разогрели чай. Тихонов вернулся с винными бомбами. Сестрички сообразили закуску, подсели. Слово за слово, всё больше про Сибирь: де, хорошая Сибирь сторона, пока окончательно очнувшийся и активизировавшийся Веничка не вопросил публику, читали ли мы Джозефа Конрада. Тут, после второго или третьего стакана, я понял, что чокнусь с ними, что пора оставить их двое на двое и тикать. Я пробрался к двери и вышел в свежее, после прокуренных комнат, осеннее утро на пустынный двор московской окраины.
Вот ведь что интересно: живого писателя не раз видел, говорил с ним, пьянствовал, укладывал спать, а так до сих пор и не прочитал «Петушки». Там, как рассказывают, Веничка безуспешно пытается подойти поближе к Кремлю, чтобы увидеть его, – так и у меня с его книжкой: обещают, а всё не дают. А надо бы почитать. Говорят, что Веня обозначил свои «Петушки» как поэму. И правильно: душа у него поэтическая, человек он нежный. Я успел это почувствовать.
На ту пору занемог мой учитель и наставник в университетской жизни Николай Григорьевич и не показывался на семинаре. Купив яблок, я поехал в сторону Пироговки и долго искал нужный корпус среди массивных больничных строений. Николай Григорьевич лежал в отдельной палате и, кряхтя, поднялся, чтобы сходить по надобности. Подают ли здесь утку, я спрашивать не стал. «Послушайте, что я вам скажу, – начал он свою речь. – Если со мной что случится, не бросайте науку, не уходите с кафедры. Я говорил заведующему о вас, что вы у меня намечены в аспирантуру. Думаю, он поможет. Мы в филологии одна семья, не будет семьи – не будет науки. Науку не предавайте. Больше читайте Поливанова и Бодуэна, можно почитать „Философию имени“ отца Сергия Булгакова, но не читайте вы Солженицына, не подставляйтесь»…
– Николай Григорьевич! Да я…
– Знаю, читаете! Я вас защитил тогда, когда мне сказали, что вы в чёрных списках, велел, кому надо, чтобы вычеркнули. Не надо вам больше этого. Штрафбаты, – он пишет. – Какие штрафбаты! Мы первые шли, нас и косили! Не читайте! – про штрафбаты он говорил слово в слово, как мой отец, такой же израненный фронтовик.
– Николай Григорьевич! Кто вам наговорил? Ничего я не знаю про эти штрафбаты. Вы не волнуйтесь по-пустому. Выглядите хорошо, подлечитесь и ещё сто лет проживёте.
У него было волевое открытое лицо, и он, когда произносил что-либо существенное, начинал двигать нижней челюстью для впечатления. Он меня действительно защитил на втором курсе, проведав о моём присутствии в таинственных чёрных списках, куда вносили неблагонадёжных студентов. Грабчук подтверждал существование списков, и одно время мы стали осторожнее с антисоветской литературой, но ненадолго. Кто же мог ему сказать? Ничего такого особенного из Солженицына, кроме «В круге первом», я ещё не читал – «ГУЛАГ» пришёл потом…
До меня дошло, что никто ничего не говорил моему наставнику, а что он сам всё вычислил и предупреждал. Заботился обо мне, чтобы меня не выгнали с факультета. Бог весть, почему так бывает, но ведь бывает: кому, казалось бы, я был нужен в этой Москве, а вот – и обо мне думали. Николай Григорьевич был ко мне незаслуженно добр.
На факультете была у меня приятельница Олечка – она и теперь есть – письмо от неё пришло. Оля была влюблена в Грабчука, бегала за ним, а он от неё; всё она у меня про него выспрашивала, и про его предстоящую женитьбу я ей рассказал. Олечка – божий одуванчик, деревенская, из северной деревни Крутая Гора; маленькая такая, аккуратная, чистенькая, очень по-русски хорошенькая. Она занималась палеографией и знала всё, что происходит на факультете. Как-то раз той осенью вышли мы с ней из нашего корпуса на улицу, и она рассказывает про скандал с одним пятикурсником, известным по факультету красавцем: его посылали на стажировку в Швецию, а теперь шьют провоз валюты, но доллары ему подкинули – это провокация, и кто-то его заложил – всё в таком духе. Тут Грабчук. Он Олечки обыкновенно сторонился, но в этот раз деваться ему было некуда. Слово за слово, стал рассказывать про Исаича: что, мол, сгущаются тучи. Олечки он не опасался – проверенная. Говорит, говорит, и раз – подходит Зотов и здоровается с ним за руку. А он не останавливается, всё говорит. «Про кого это вы рассказываете, Игорь?» – «Про Солженицына. Слышали, может, Миша, о таком писателе». Зотов кивнул головой со знанием дела: «Кажется, дело идёт к его новой посадке». – «Да вышлют они его, Миша, вышлют! Испугаются сажать» – «Кого испугаются?» – «Запада, кого же ещё».
Я потом Игорю попенял, что он не затух: кто его знает, этого Зотова, хоть он и хвастает знакомством с Генрихом Бёллем. Грабчук призадумался, но отделался присказкой, позаимствованной у Хомы Брута.
Съехал я из общежития ближе к зиме. В самом деле: аспирантура не аспирантура, но заниматься не дают. Серж повадился водить в комнату преферансистов – да за полночь, да с пивом; и хотя я всех их знал как облупленных и иной раз тоже расписывал пульку, но меня это утомляло. Я привык жить один, а в общаге становилось день ото дня бардачней. Я, можно сказать, бежал.
В подвале Мастера
Я вспомнил про запасной вариант: летом мать, в случае уплотнения и неприятностей в общежитии, советовала мне поселиться в Москве у одной пожилой женщины, доводившейся родственницей её подруге; мне дали адрес, это в центре, и рекомендательное письмо к этой самой женщине. Понятно: матери хотелось, чтобы я больше занимался, а не просвистывал дни. Хозяйка жила одна, имела вторую свободную комнату и была не прочь впустить квартиранта за умеренную плату, а родители готовы были платить, лишь бы я учился. Старуха была привязана к нашим местам, откуда давным-давно уехала, и имела намерение впустить лишь постояльца-земляка. Я и был земляк, знаком её родственнице – подходил. У хозяйки были трудности с передвижением, и надо было, по-видимому, помогать с закупками. Подруга матери, тётя Катя, изо всех сил хлопотала, всячески хвалила родственницу, о моём возможном визите она уже ей писала, оставалось сходить.
Вот вышел я из Кропоткинского метро и нашёл улицу Фурманова, больше похожую на переулок. Прежде несколько раз прогуливался по Арбату и по Гоголевскому бульвару, места немного знал. Тут хорошие места, чудесные, можно сказать. Где же этот флигель не флигель, домик в один этаж, без номера, номер, как говорили, указан на большом доме, к которому этот флигель примыкает, почти примыкает, там со двора должен быть промежуток, но с улицы этого промежутка не видно, всё загорожено сплошным каменным забором, как рассказывала бывавшая здесь тётя Катя. Вот, пожалуй, вот, надо обогнуть, зайти со двора… Странноватое, однако, сооружение. Должно быть, строили как складское или под дворницкую.
Я стал на приступок крыльца, позвонил в дверь низенького флигелька, там зашуршали засовами. Дверь открыла быстроглазая полусогнутая старушка в длинной кофте, глуховатая. «А-а, кто?» – спрашивала приветливо. Я говорил громко, называл её Евдокией Семёновной, втолковывал ей про себя, про родственницу, про письмо.
– От Кати, ты от Кати. Знаю я. Читали мне. Заходи. Ещё одно письмо? Да она всё уже написала, потом сам зачтёшь, только громчее читай, глухая я и не дюже грамотная, расписаться могу, какую квитанцию – разберу, а больше не выучилась. Некогда было. Наташка мне письма читает, когда заходит. Поняла я, заходи. Разувайся.
Я спустился на две ступеньки ниже и понял, что нахожусь в полуподвальном помещении.
– Как она там, Катя? Она ж мне двоюродная. Долго не видались. Я всё собираюсь, а только никак не соберусь. Тут кошка у меня жила, с кем оставишь? Наташка не хотела ездить кормить. Далеко ей – лень, а не далеко. Надо мне поехать к Кате, да с моей спиной как? Не залезу в поезд. Там мамина могилка, отец он гдей-то в Сибири зарыт, не знаем точно где, а мама там. Сколько лет-летов прошло. Ну, вот, ты тут можешь, стало быть, жить, в этой комнате. У тебя девушка есть? Пригласить посидеть можешь, я не против. Катя писала, что ты смирный, столик у меня, если позаниматься, а дверей между комнатами нет – занавеска, но свет можешь жечь, сколько хочешь, разочтёмся, тут у меня ребята счётчик подкрутят, как надо, у меня свой счётчик. Я засыпаю тут, за ширмой, мне не видать будет свет, слышу я неважно, уборная в прихожей, напротив входной двери, а мыться можешь ходить в Староконюшенский – там душ, я туда хожу, постель ношу в прачечную, а стираю по мелочи дома, картошечки там, тоси-боси, это я сварю, столуйся когда, если понравится. Иной раз, знаешь, скрутит, картошки не выйду купить. Наташка против квартирантов, но я её не слухаю. Это племянница моя, Наташка, – от родного брата, он умер, она раньше жила со мной, с матерью не ладит, теперь замуж вышла, с мужем живут неплохо…
Местоположение мне весьма понравилось, и комната ничего себе – метров пятнадцать, запроходная, с платяным шкафом, с прямоугольным столиком, с высоко застеленной железной кроватью, с гераньками на окнах, выходящих в переулок. Первая комната неправильной формы – там обеденный стол, в дальней нише газовая плита, другой угол, спальный, задёрнут занавеской. Флигель полуподвальный, но не грязно, чистенько и не так сыро, кажется. А вон и туфельки на чьих-то ножках мимо окон прошли, но старушка, уловив мой нечаянный взгляд, быстро зашторила окошки…
Я перевёз вещички, переехал, стал жить в подвале. К студенческой занятости прибавилась необходимость слушать излияния Евдокии Семёновны. Весёлая старушка много для меня сделала, но в первое время существование бок о бок с шумоватой, глуховатой, да ещё и выпивающей хозяйкой, бывало, досаждало мне – и тут выпивай, слушай всякие байки и частушки про Сталина с Кировым. Приглашал в гости Грабчука. Посидели, потрепались, Грабчук затягивал хохлацкую песню: «Вивци, мои вивци, вивци тай отары, хто ж ваш будэ пастырь, як менэ не станэ…» Вивци – это овцы.
Племянница Наташа приезжала редко. Хмурая и высокая, эта молодая женщина была ко мне мало расположена. Случилась как-то компания в лице провинциальных родичей хозяйки, приехавших шумно и расположившихся на напольные ночёвки в первой комнате – я перешагивал ночью через храпящие тела. Куда лучше покупатели Дусиной самогонки в лице художников Саши и Толи, имевших мастерскую впритык к нам, в подвале большого дома. Они занятные ребята, водились с коллекционером Костаки и рассказывали, что их картинки есть в особняке у дипломата Стивенса, на Рылеева, в Гагаринском переулке, то есть в двух шагах от нас.
Евдокии Семёновне шло к семидесяти, но она была деятельна, бодра, и спина её не столь безнадёжна – за покупками мне приходилось ходить нечасто. Вкусно готовила, угощала, относилась по-родственному. Послушать у неё было что. В начале тридцатых годов ей удалось отстать от семьи направляемого в ссылку отца, державшего мельницу на наших хуторах, она добралась до Москвы, бедовала, мыкалась, пока не пристроилась в работницы к одному советскому поэту, жившему в писательском доме. Это важно сказать: дом, к которому примыкал флигель, был писательским кооперативом, выстроенным в тридцатые годы. Поэт рано овдовел, в войну, в эвакуации, где-то на Урале покончила с собой его жена, приятельница Марины Цветаевой красавица-армянка, чьи фотографии Семёновна бережно сохраняла. Сама хозяйка оставалась при поэте до конца его жизни, даже возила его на свой родной хутор и показывала, как топят печь кизяками. Она была предана его памяти, а он отплатил ей тем, что выхлопотал ей этот подвал: занимал пост в Союзе писателей и имел связи.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



