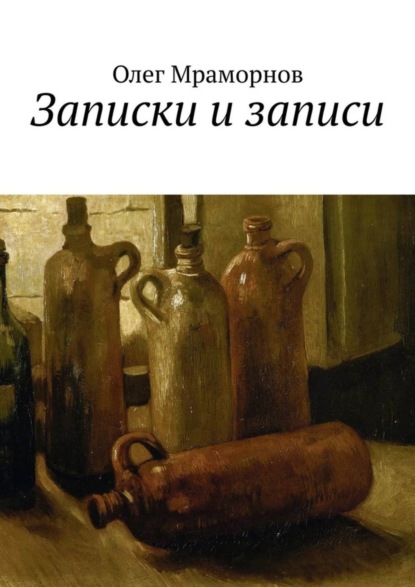
Полная версия:
Записки и записи
Вот тогда я и завёл тетрадь для стихотворений, а ещё писал сочинения на подготовительные курсы при МГУ. Кроме того, подтягивал немецкий язык, редко и без особой на то нужды помогал по хозяйству и делал прогулки к Дону. Шёл по живописной дороге вдоль реки, заходил в донской лес с его сухими запахами, ящерками и змеями, уходил далеко, к Чёрному острову, к повороту реки, где над обрывистым песчаным берегом высятся три великанских тополя, должно быть, трёхсотлетних – их мощные, узловатые, длинные корни выходят наружу и окунаются в водный поток. Кажется, они вот-вот упадут в реку, но до сих пор вода не подмыла эти деревья.
…
1970 год принёс удачу – я поступил в университет. Если бы не поступил, осенью меня бы забрали в армию, к службе в которой я себя способным не чувствовал. Судьба моя сложилась бы иначе. Но на сей раз университетский преподаватель Анна Ивановна Журавлёва (Царствие ей Небесное) поставила мне пять баллов за сочинение, в котором я допустил две пунктуационные ошибки (не выделил вводные слова). Она сочла это несущественным, а содержание ей понравилось. На устном экзамене по литературе я также получил высший балл. Меня приветил начальник подготовительных курсов при филологическом факультете МГУ Николай Иванович Герасимов. Он читал посылаемые мной на курсы сочинения, обратил на них внимание и пригласил меня домой для беседы – то был добрый человек, хорошо знающий предмет филолог старой московской школы.
Я приехал в Москву не с целью её завоевать. Я приехал, чтобы учиться. С тех пор я долго жил в столице, неплохо знаю и люблю её старую часть. Оттого, наверное, что не желал её покорять, не испытываю и чувства разочарования.
Общественными вопросами я в юности себя не обременял, был «амбивалентным», меня не слишком это затрагивало. Во мне была закрытость от впечатлений общественности. Материальной нужды я не испытывал: сыт, одет, обут. Все кругом считали, что так всегда и будет, что развитие возможно лишь в социалистическом направлении – я не перечил. Я рос в стихии патриархальной жизни и мало сталкивался с отвратительными тоталитарными чертами советского строя, поэтому, наверное, был далёк от революционных настроений. Не было у меня, надеюсь, и особого сервилизма. Проще сказать, политические рефлексии у меня вытеснялись другими. Но к вопросу о правде-истине я равнодушен не был. Случалось, что допекал отца: почему одна ваша партия должна командовать? Отец злился или расстраивался. Они, де, воевали, строили, а в партию он записался после войны и тяжёлого фронтового ранения. Тут я замолкал, а что возразишь? Партия командует, а не отец – он-то безо всякого властолюбия. И в спорах я участвовал: про революцию, про красных и белых, про Сталина, про Хрущёва, про Брежнева. Когда мне было шестнадцать лет, мы с отцом и другими заядлыми спорщиками обсуждали на местном уровне чехословацкие события. Я был против притеснения чехов.
Так вот, к вопросу о правде-справедливости. Построен новый мир, в который горячо верит мой отец. И действительно, много хорошего: люди выровнялись, деньги не играют первенствующей роли (хотя их всегда не хватает), образование и медицина бесплатные, а у нас в селении и жильё бесплатное: за газ и воду мы не платим (всё за счёт местного газового промысла), а за свет – копейки. Но почему всё переведено в социальную плоскость и упущен человек? У человека есть своя собственная проблематика, а все толкуют лишь про социальные проблемы. Обобществили человека и забыли о нём. Забыли того человека, о котором писал Бунин. Где теперь этот человек, с богатством его внутреннего мира, куда его дели? Я проявлял интерес в вопросе о предназначении человека.
…
Когда в коридорах старого здания университета на Моховой во время сдачи вступительных экзаменов я познакомился с Глебом Анищенко и Женей Поляковым, то обрадовался такому знакомству. Я не ошибся – эти литературные юноши ввели меня в свой кружок, выросший из литклуба 16-й московской литературной спецшколы, где они учились. Литклубом руководили две образованные, умеющие формулировать актуальную литературную проблематику дамы, позже они приходили и на собрания уже не школьного, а вольного поэтического кружка, с обеими меня познакомили. Ирина Петровна Кудрявцева была приятельницей Юлия Даниэля, он посвятил ей «Стихи о воде» (это посвящение почему-то отсутствует в издании сочинений Даниэля 2019 г.). Ирина Петровна переехала жить в Америку. С Полиной Ивановной Овчаровой мы дискутировали о Лермонтове.
Заметный и самый инициативный участник кружка Андрей Пагирев, на квартире родителей которого мы чаще всего собирались (его мать была из рода Лермонтовых, а отец успешным журналистом), позже написал.
Под гуашью Андрей, за год до своей кончины, разумел не только неустойчивость нас самих, но и непрочность тех красок, какие мы пытались положить своими стихами. А Божия эмаль – покрытие высокотемпературной обработки и не смывается. Надеюсь, мы не испортили эту эмаль…
Женя Поляков утверждал, что , и заявил однажды в рукописной статье тех лет, что лирический герой Глеба Анищенко набил бы морду поэтическому персонажу Марка Фрейдкина. Глебов герой был ершистым, дерзким, с выходкой ; в нём были приметны черты свободолюбца, наследника декабристов, белогвардейцев, Николая Гумилёва. Глеб осмыслял и тему поэта —при видимом легкомыслии его поэт пытается вспомнить нечто важное: Из наших стихотворцев Анищенко был наиболее содержателен. жить неважно при ком – дорогое в другом (мой единственный фонарик – папироса!) пустые глазницы старинных поверий перекрестились на этом врале…
Марк Фрейдкин сочинял мелодично, музыкально, но его герой ускользал от определений (за это морду не бьют):
Марик оказался, вопреки романтически отрешённому в юности облику, человеком практичным, раз стал организатором и владельцем знаменитого в девяностые годы элитарного книжного магазина «19-е Октября». Он писал прозу, переводил элитарных французских поэтов. На годах мне сказали, что его уже давно нет на этом свете.
Если задаться вопросом, что нас соединяло, помимо стихотворческой воодушевлённости и поколенческой близости, то можно ответить так: поиск некоей спрятанной или подавленной правды-истины Русские мальчики не довольствуются действительностью, им подавай то, что за пределами видимого. Так и начинается поиск – как порыв за видимый горизонт. Бог открывается не сразу – невидимый Бог, живущий вне истории, за пределами земной эмпирии. Но люди ищут Бога в земной истории, как потеснённую ходом исторической жизни . правду…
Мы числили себя сторонниками белой идеи. Тут была и серьёзность молодёжного протеста против скучного официоза, но присутствовали и театральность, фрондёрство, наигрыш. Нам представлялось, что мы избываем плоды революции, преодолевая то жестокое, что становилось на наших глазах казённым, серым и скучным. У Глеба Анищенко белогвардейцем был его дядя-тёзка. У меня были белогвардейские предки с Дона. У всех похожее имелось, а не имелось, так можно было примкнуть. Дети благополучных времён советского строя, мы решались жить помимо предписаний – не по узким меркам и пропагандистским клише, не по законам классовой борьбы и злобы. Искали другие ориентиры, других героев – и находили их на фронтах той самой й, только с противоположной лирическому герою Окуджавы стороны. Мы пели про поручика Голицына, про доблестных белогвардейцев, на чьих погонах . единственной гражданско вышивает кресты последняя осень
В играть не запрещено, однако мы давно не дети, и для меня гражданская война закончилась. Про красных и белых, про революцию и гражданскую войну неистово спорят в год столетия драматических событий истории, но всё это более-менее романтика, ибо никаких реальных красных и белых больше не существует. Жизнь усложнилась и не укладывается в красно-белую оппозицию. Надобно радеть о будущем народа. Россия – это народ и его будущее, а не отгрохотавшая и отзвеневшая история. Напрасно бросать в воды истории якорь спасения – история не спасёт. Пусть история клубится в книгах и кинофильмах, оседает пылью в учебниках и на университетских кафедрах – она прошедшее, не надо мерить историей будущее. В прошедшем она разъединяла людей, а двигаться можно лишь в сторону единения, не разбиваясь по мечтательным признакам. Нелегко соединить в сознании дореволюционную и постреволюционную Россию, но лишь вместе это и есть фактическая и лирическая Россия. белых
И ещё нас соединял Мандельштам – опорный поэт нашего поколения. Моим недостатком было то, что до поступления в университет я не знал его стихов. Мне быстро помогли избавиться от этого. Мандельштам подвигал, в силу вечной свежести и новизны своего голоса и по нашей к нему молодой восприимчивости, на дерзкое словотворчество. Он настаивал на приоритете . Он её демонстрировал. В «Четвёртой прозе» Мандельштам учит, что настоящая литература – это Про ворованный воздух, про написанную без разрешения литературу – это было до жути важно. Это жгло. Мы желали сочинять безо всякого разрешения. внутренней правоты ворованный воздух.
На писание никакого разрешения не требовалось – пиши, что пожелаешь. Другое дело, что ты с написанным будешь делать. Публиковать? Но ведь мы знали, что вся текущая литература – разрешённая, подцензурная. Зачем совать нос к журнальным редакторам, если они отнесут твою рукопись к цензорам. В бытность студентом-сочинителем меня как-то затащили в редакцию «Юности», но я быстро сообразил, что мне туда ходить не надо, и им меня видеть нет надобности. Ещё более решительно я стал отодвигать в сторону всё разрешённое. Широко печатались Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Для нас они не были авторитетами, их произведения я знаю мало. Того содержания, которого требовало наше молодое сознание, мы у них в своё время не находили, а позже мне было недосуг. Теперь я лучше представляю, что среди советских поэтов было немало значительных авторов. Не бывает так, что одна запрещённая литература хорошая. Выходили книги Арсения Тарковского, Давида Самойлова, Тряпкина, Юрия Кузнецова, Кушнера, Леоновича – надо было их доставать. Но мы больше читали несоветских: Достоевского и Константина Леонтьева, Розанова и Бердяева, акмеистов и эмигрантов. По самиздату прорезывались новые голоса, но какой из них подлинный, настоящий – было трудно различить. Перепечаток Бродского в первые семидесятые годы было не много, хотя его «Пилигримам» я подпевал – их пел под гитару мой университетский приятель Саша Корчик. После «Остановки в пустыне» я не слишком увлекался Бродским, его послания из-за рубежа прошли мимо.
Ладно, с печатанием не получается, никогда не получится, нечего о нём думать – давайте почитаем. Можно и своё, можно и Мандельштама. И сколько радости давал Мандельштам! Его совершенно новая гармония, смелость и проработанность тем, энергетика словосочетаний, полёт и свобода завораживали. Мандельштам изо всего извлекал гармонию, даже из впечатлений от своего Но уже не таким выглядел век. Державшийся на мантрах марксизма-ленинизма режим сохранялся, но путы ослабевали, и массовые репрессии прекратились. Век мой, зверь мой… века-волкодава. волкодавом
Опусы участников кружка и стихотворцев из близкого круга набирались на пишущей машинке Андрея, им же переплетались в самиздатские книжки. Две или три у меня остались, остальные сгорели на даче под Обнинском, вместе с дневником.
С Андреем мы сошлись близко. Пока он служил матросом-стрелком на Тихоокеанском флоте, активно переписывались. У меня уцелели поблекшие рукописные и машинописные автографы его замедленных, медитативных стихов. С годами в нём нарастали христианские настроения, как у большинства из нас:
Есть вещи, о которых можно сказать только стихами. Может быть, лучше было написать про душу, что она не «слышит», а «чует» нёбом истину, но Андрею виднее. , он и сторожевал, и зарабатывал деньги на архивной работе в глубинке, а в последние годы подсоблял при подмосковном храме. После его смерти (неудачная операция опухоли в голове) на разломе веков и тысячелетий, аккурат в нулевом году, вдова издала тонюсенькую книжку его стихов. В стихах Андрея у егонет дажеОн говорит в трёхстишии про смывший нас, а вместе с нами инаши строчки из тех лет Время, поверх которого мы пробовали сочинять, отомстило нам. Где те стихи? – остались в тетрадях или сгорели, как мои. Хранивший душу нежной ягоды надежды кожи. тихий потоп времени, .
Андрей не дожил до пятидесяти и всегда выглядел молодым. Говорил, что думал. Верил в то, что говорил. Он сохранил единство сознания, чувство На почтовых отправлениях и на книжках, которые дарил мне во множестве, он печаткой оставлял свой экслибрис: кораблик с парусом и стремительный росчерк «А» и «П». Было в начале Арбата, не так далеко от ресторана «Прага», кафе, с лёгкой руки Андрея мы называли его «Колдобиной». Андрей меня туда иногда заманивал. Обыкновенно в разговоре он использовал не долгие периоды, а короткие фразы и реплики, междометия и восклицания, делал паузы, погружался в молчание, но взаимопониманию это не мешало. Мы садились за столик, он усмехался с характерным прищуром и хитрецой, глубокие бархатные глаза начинали блестеть; поднимал вверх указательный палец, адресуясь к высоте, куда мы имели склонность обращаться. внутренней правоты.
В восьмидесятые и в девяностые годы мы встречались реже. Последняя наша встреча закончилась походом в винный магазин, бывший на углу Трёхпрудного переулка, недалеко от дома, где некогда жили сёстры Цветаевы вместе со своим знаменитым отцом (я тогда проживал поблизости, в Ермолаевском переулке). После похорон я написал Андрею стихи. Здесь также упомянуто вино, но обыкновенное, а не причастное: вино надежды, нежных лепестков короткой юности, что стала нашей метой…
Цитируя свои строчки, отмечу, что я лет десять после окончания университета стихи не записывал. советовал Лев Толстой. Раз не писал, значит, не ощутил в себе призвания бросать как говаривал Женя Поляков. Нужна сверхъестественная уверенность в себе, чтобы пренебречь и посвятить жизнь сочинительству. Юношеские стихи я с тех пор забыл и помнить. Стихи стихами, а на семью надо было зарабатывать. На рубеже семидесятых-восьмидесятых годов меня выручила мысль, что я намеревался стать не поэтом, а филологом. Так я стал втягиваться в рутинную редакционную работу: принимал и просматривал рукописи и сам немного писал в научно-популярном жанре. Редактором в толстых литературных журналах я не служил, молодых поэтов и прозаиков не обижал отказами – я работал в профильном издании. Романтический флёр с меня слетал, от поэтических кружков я отходил. Редакторское дело, журналистика для филолога, не замышляющего романов, занятия наиболее подходящие, считал я. Если можешь не писать – не пиши, феерический год на лирический лёд, как на плаху, — презренной пользой
Я оставался поклонником то есть возвышенного действия и поступка. «Лебединый стан» Цветаевой тоже сыграл свою роль. Но и из рядов доблестного белогвардейского воинства с течением времени по причине убыли в его рядах и исчезновения соратников, при отсутствии командиров, приказов и линии фронта, можно сказать, самоустранился, выбыл. Где оно, это воинство? Да и за что воевать, за Те белые, о которых мы пели песни и читали книжки, воевали за Учредительное собрание, но даже у них не всегда присутствовала цель борьбы… белого дела, Белогвардейская рать святая… учредилку?
Мне открывалось более скучное, зато предметное пространство. Надо было ориентироваться в этом пространстве, ибо оно и было тем настоящим временем, в котором выпало жить. Опять же и отец: он не перестал меня спрашивать, на кого же я выучился.
Я зачитался, я читал давно,с тех пор, как дождь пошёл хлестать в окно.Весь с головою в чтение уйдя,не слышал я дождя…Но если я от книги поднимуглаза и за окно уставлюсь взглядом,как будет близко всё, как станет рядом,сродни и впору сердцу моему.Но надо глубже вжиться в полутьму,и взгляд приноровить к ночным громадам.И ты увидишь, что земле малаоколица, она переросласебя и стала больше небосвода,и крайняя звезда в конце села,как свет в последнем домике прихода.Времени тихий потопсмоет нас, как гуашь,нанесённую на Божью эмаль……Всё сегодня, завтра – жалкие мгновенья…Поколенье мандельштамовской тоски,нам влюблённость и везенье не с руки —музыкальности бы нам да вдохновенья…Падут во прах великие победы…Душа останется. И с небом наравнеХранивший душу преломляет хлебыИ слышит нёбом истину в вине.Отрывок
Мои бумаги в 1994 году сгорели вместе с картонным ящиком, но в письменном столе сохранился черновик одной оборванной записи. Некоторые имена я здесь изменил, но имена лиц, ставших достоянием истории, оставил без изменения.
Осень 1973 года
…Начать следует не с полученного третьего дня письма, не с оглушительного по своему содержанию письма от Олечки – начать надо с того, как я оказался на Кропоткинской, где завязалась история с Зоей, ибо письмо напоминает мне о ней. Однако и предысторию надо изложить. , но я попробую. Молчи, скрывайся и таи
Шла ранняя осень 1973 года. В аллеях университетского парка на Воробьёвых горах пышные клёны ещё не начинали краснеть. Я с неделю как вернулся с каникул, начал занятия на четвёртом курсе и после встречи с приятелями, помню, ворочался на узкой кровати, на матраце в шишках, в общежитии, пытаясь заснуть. Мы пили пиво в кафе-стекляшке недалеко от Китайского посольства, у кого-то оказалась водка, мешали, было не совсем комфортно. Морфей меня обыкновенно не оставлял, и на сей раз должен был явиться, и соседей не было, никто не мешал мне заснуть. Стояли в той комнате ещё две кровати, в общаге главного здания университета, на 22-м этаже, так высоко, что в ненастные дни в раскрытое окно вползали лохматые тучи, и непривычно мне было.
Весь минувший год я прожил пониже и один, в изолированной комнате двухместного бокса. Это благодаря Грабчуку – туда просто так не селили, а только по линии обменов-контактов с иностранными студентами; Грабчук съехал тогда к московской тётушке, но место за ним сохранялось. А здесь со мной будут жить Юрочка и Серж. Юрочка ещё не приехал, большой зануда, но тихий, а Серж почти всегда приходит поддатым. Вот где он сейчас, что его нет, где шатается? Наверняка, с непутёвой Лариской. Однако я ему не нянька. Не всегда он был таков. Первые два учебных года мы с ним снимали комнатёнку в бараке, на западной окраине Москвы. Барак был под снос, коридорного типа, с жильцами-работягами, с общим умывальником и уборной. Комнатой распоряжалась родственница Сержа, молодая особа, а мать её в это время сидела в тюрьме за убийство топором мужа, которого – мёртвого! – прятала несколько дней в подполе той самой комнаты, где мы жили. И Серж меня всё пугал, что вот сейчас из подвала вылезет этот самый убитый женой мужик, но крышка была плотно подогнана к полу, прикрыта ковриком и никто не вылезал. Мы хорошо с ним жили, дружно, и Серж корпел над книжками, а теперь чудо будет, если дотянет до диплома, – пустился в тёмные дела, подфарцовывает, мне задёшево перепали от него джинсы.
В стекляшке с нами оказалась рыженькая Зоя с выпускного курса и этот – заносчивый, с претензиями – Зотов, тоже выпускник. Не иначе, как он за ней увязался, или за Грабчуком, мог и за Грабчуком. Хотя старшие студенты с младшими не водятся, но Грабчук отслужил на флоте три года – старше нас всех. Он пока сидел в радиорубке крейсера на Тихом океане, выучил наизусть Катулла в подлиннике, а увлёкся римскими поэтами ещё у себя в Харькове. Зотову перед Грабчуком не покичиться, хотя Зотов складно болтал о Генрихе Бёлле, которого видел в доме у знакомых.
Оказалось, что Грабчук знал эту самую Зою. Они стали в сторонке, и Игорь ей что-то читал с листа, а она записывала. Она ушла раньше, одна, пока Зотов нам – были Веденяев с Катковым – продолжал рассказывать о Бёлле.
Грабчук на обратном пути пояснил, что Зотов с романо-германского отделения, а Зоя со славянского – сербка. Хорошо знает язык, занимается у Никиты Ильича Толстого, её обещают послать в Белград. Она попросила Грабчука перевести ей небольшой латинский фрагмент про Кирилла и Мефодия для диплома, он ей с листа и перевёл, пока мы пили пиво. Предлагал познакомить меня с ней, но я парировал – сам пусть займётся, а он напомнил, что скоро женится.
Грабчук не терпел подле себя филологинь-недознаек, невесту нашёл на мехмате, математичку. Никому её не показывал. У Грабчука шла обширная жизнь – факультетская лишь фрагмент; и свадьба у него была на носу, и проблемы с жильём: надо будет снимать, невеста не московская, у тётки жить не получается. Вообще, Грабчук, с одной стороны, человек учёный, с другой – легкомысленный: в аспирантуру его не тянуло, и он не вступал в партию, куда, по мнению деканата, давно должен был поступить как отслуживший срок действительной службы старшина запаса. Репутация его на факультете была не ахти: уклоняется от общественных нагрузок, отказался стать комсоргом курса, но вот дали поручение по опеке над иностранцами – это ему-то! Но он такой – внешне представительный, и на него смотрели сквозь пальцы: статус отслужившего армию студента допускал отклонения. А куда он со своими знаниями латыни – вот если бы он учился на классическом отделении, а так?.. Но он хвастался, что ему на кафедре античной филологии выдадут справку о том, что он имеет право преподавать латынь, и его уже просят написать про Катулла для научного сборника Харьковского университета. В Харьков бы ему вернуться, там бы ему цены не было.
Своеобычен козак Грабчук: плотный бурсак с длинными усами, а в лице тонкость. В последнее время стал предаваться зелёному змию – не надо бы, и таскаться по богемным квартирам. У него доступ к самиздату. И меня вовлёк. Читаем.
«Слушай, поедем в Беляево, к Вадимчику, там Веня будет…» – предложил он мне. Но я уклонился: тащиться к Вадимчику, которого я уже пару раз видел, далеко, всё кончится пьянкой, хватит уже пива с водкой в кафе, завтра надо идти на семинар. Распростившись с Грабчуком, поехавшим к тётушке, я направился по пышной кленовой аллее в сторону общежития, где у проходной тёрлись непонятные, экзотические люди, слышалась нерусская речь: иностранцы пытались провести гостей или, наоборот, наши – иностранцев. Я подумал было зайти в гости к двум знакомым исландским девушкам, наследницам викингов, послушать их рассказы про страну Исландию, где все друг друга знают, но передумал и пошёл спать.
Дня через два Грабчук сманил к Вадимчику. Говорит: на живого писателя, на Веню посмотришь, ты хоть раз в жизни видел в глаза живого писателя? Я ответил, что у нас на факультете одни сплошные писатели: пушкинист Сергей Михайлович Бонди – член Союза писателей с момента основания, и Кулешов с Метченко вполне даже писатели и члены, вон у них сколько разных умных книжек напечатано: и про Чернышевского, и про Маяковского. Грабчук возразил мне, что настоящий писатель должен писать про жизнь и про живых людей, а не про других писателей. Вот он, Грабчук, начал писать про Катулла, но это ещё не значит, что он писатель. «Ну а как же те, у Волгина, на студии «Луч»? – «Серёжа Гандлевский и Саша Сопровский, что ли, писатели, или этот, краснощёкий, как его, Казинцев? Есть там одна, – Грабчук притворно и мечтательно задумался, устремив глаза к небу, – по фамилии Седакова. Вот она, может, станет когда-нибудь писательницей. Но и она пока не писательница, а переводчица».
Моё представление о писателе было похожее: писатель – это тот, кто знает про людей нечто такое, чего не знаем мы. Писатели в этом отношении превосходят простых смертных и призваны нас учить. Что до поэтов – то у них, кроме знания людей и жизни, есть дополнительный «объект» в виде их искусства. А мы – мы филологи, не писатели. Мы писателей изучаем. Вот мой научный руководитель со второго курса Николай Григорьевич советовал мне читать «Адольфа» Констана и «Ученика» Бурже – я читал, искал русских аналогов этим романам воспитания, но пока нахожу в качестве таковых лишь «Жизнь Арсеньева» Бунина; французы психологически изощрённее, а Бунин ближе по национальным признакам. Советских беллетристов я читал мало, несмотря на внушения отца.
Правду сказать, настоящих писателей я в глаза никогда не видел, да и где. Разве что на поэтическом семинаре Игоря Волгина видел его самого. Говорят: большой любитель девочек. Их там у него много. И ещё одного поэта – Георгия Ивановича однажды видел у себя в селении по чьей-то подсказке, но даже лица его толком не разглядел. Он был в весёлой выпившей компании, с фырканьем плескался в реке, выскакивал на берег, трусил по песчаной косе в длинных сатиновых трусах, резво разбегался, и, где покруче, сложив перед собой руки топориком, лицом вниз шлёпался в воду – с такой силой можно было себе и нос об воду расквасить. А был ли Георгий Иванович, поэт местного масштаба, на чьи рифмованные сентенции в районной газете пытался обращать мой взгляд отец, настоящим писателем, про то мне неведомо и не узнаешь никогда: где теперь та газета, где Георгий Иванович?



