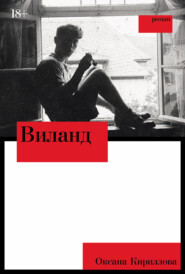
Полная версия:
Виланд
– Виланд, я тоже тебя хочу. – Голос Бекки вырвал меня из оцепенения.
Я не мог поверить, что слышу эти слова от маленького чистого создания.
– Ты не знаешь, о чем говоришь. Это омерзительно.
– Вздор! – неожиданно гневно произнесла она. – Когда двое любят друг друга, в этом нет ничего омерзительного.
Фраза была слишком чужой для Бекки, и, хоть она произнесла ее без запинки, видно было, что она мало что в ней смыслила.
– Ты услышала это от Магды? – догадался я.
Она кивнула. Совсем по-детски, наивно глядя на меня. Я со вздохом обнял ее и снова прижал к себе. Больше она не отстранялась, даже чувствуя мое возбуждение.
Месяц пролетел незаметно. Вернеры собирались остаться в Бад-Хомбурге до конца сентября, а потому в конце лета я начал уговаривать тетку оставить меня еще на месяц.
– Тетушка, драгоценная моя, – ластился я к ней, – этот замечательный воздух и воды идут мне на пользу, я ощущаю подъем сил, как никогда прежде. К тому же я так привязался к тебе, что буду очень скучать. – Я глубоко вздыхал, всем своим видом демонстрируя, сколь сильно буду скучать.
Старая дева буквально таяла. Мне не составило труда заставить ее написать родителям письмо, в котором она убеждала их в необходимости продления моих каникул. Я с нетерпением ждал их ответа. Он пришел быстро. Прочитав его, тетя Ильза удивленно спросила у меня:
– Твоя мать интересуется: не примкнул ли ты здесь случайно к какому-либо кружку и не связано ли твое желание остаться именно с этим?
– Вот еще, – фыркнул я и был честен как никогда.
– Так и напишу, – кивнула тетя Ильза.
Я понял, что добился своего.
Парк, по которому мы с Бекки гуляли, начал постепенно меняться. Сочная зелень уступила место желтым, красным и коричневым мазкам, щедро расцветившим холст пейзажа вокруг нас. Эта перемена напоминала нам с Бекки, что ничего не вечно и вскоре придет конец и нашим прогулкам.
– Завтра родители отправятся в гости к Кёллерам, а Магду я спроважу к подругам, – сказала Бекки, когда мы уже подходили к источникам, – ты должен обязательно прийти. Я тебе кое-что расскажу, Виланд. Кое-что важное.
– Я приду, Бекки, – пообещал я.
На следующий день я дождался, когда вслед за четой Вернер дом покинула и Магда, и незаметно проскользнул через черный ход, который Бекки нарочно оставила открытым. Оказавшись в полумраке коридора, я почувствовал, как она ящеркой скользнула ко мне и обвила своими тонкими ручками шею. Поцелуи давно стали для нас делом привычным, но от этого не менее приятным.
– Виланд, мне нужно что-то сказать, – произнесла она, отстранившись.
В ее голосе звучало сильное волнение, и я напрягся в ожидании тревожных новостей.
– Вчера я услышала, как отец с матерью обсуждали волнения в больших городах, из-за которых нам необходимо уехать раньше. Мы покинем Бад-Хомбург через два дня.
Внутри меня все оборвалось. Безусловно, я и раньше понимал, что когда-нибудь наше лето закончится, но я наивно полагал, если за две недели начну морально готовиться, то к моменту нашей разлуки смогу примириться с этим.
– Так скоро? – выдавил я, в отчаянии глядя на Бекки.
Она грустно кивнула. Мы прошли наверх, в ее комнату. Испуганный скорой разлукой, я не мог насмотреться на ее печальное лицо, старался вобрать в память каждую ее черту, и мне все было мало. Я жадно вдыхал аромат ее волос, стремясь надышаться ею хоть немного впрок. В какой-то момент на меня нашло страшное умопомрачение, и, не в силах бороться с собою, я кинулся к ней, покрывая поцелуями милое лицо. Лишь ощутив на губах солоноватый привкус, я понял, что она плачет. Все еще держа ее лицо в своих ладонях, я спросил:
– Я испугал тебя?
Она покачала головой. И я понял, что она, так же как и я, страдала до слез от скорой разлуки. Забыв обо всем на свете, я вновь начал ее целовать – губы, носик, заплаканные глаза, нахмуренный лоб, белокурые мягкие волосы. Она распустила их, я с наслаждением зарылся в них руками и прижал ее так крепко к себе, что рисковал сломать.
Мое возбуждение мы почувствовали оба. И тут Бекки сделала то, что по-настоящему напугало меня. Она завела назад руки и начала расстегивать длинный ряд пуговок у себя на спине. Вскоре платье было на полу, и, переступив через него, она осталась в одной сорочке и белье. Замерев, я наблюдал за ней. Без всякого стеснения она стянула с себя сорочку и подошла ко мне. Меня колотила дрожь. Я впервые видел обнаженную девушку, и это была не просто девушка, это была моя любимая Бекки.
Я даже не пытался отговорить ее, потому что чувствовал: если эмоции, бушующие во мне, не найдут выхода, я просто умру. И это было не только на эмоциональном уровне, но и на физическом, меня буквально распирало изнутри. Но в то же время я боялся навредить ей, ведь я был таким огромным и высоким, а она такая тоненькая и миниатюрная, неужели это возможно? Дрожащими руками я скинул куртку, свою коричневую рубашку и брюки, стыдливо стянул белье и присоединился к Бекки, которая уже нырнула под одеяло. Ее еще полудетская кровать была явно не рассчитана на то, что мы собирались сделать. Пружины жалобно скрипнули, когда я навис над Бекки. Держась на руках, я смотрел на сокровище перед собой. Грудь ее еще до конца не оформилась, это были чуть припухшие нежные холмики, внизу только начали золотиться волосы. Своей коленкой я осторожно развел ее ножки и опустился. Бекки тихо охнула, но не стала отталкивать меня. Я попробовал немного надавить и проскользнул в нее буквально на сантиметр. Все заволокло туманом, сквозь который я мог разглядеть лишь распахнутые, блестящие глаза Бекки. Она раздвинула ноги шире, словно приглашая меня, и я сделал резкий рывок. Не удержавшись, она закричала. Я испуганно закрыл ей рот ладонью, но остановиться уже не мог и продолжал двигаться. Я видел, что ей больно, чувствовал, как она извивалась подо мной, пытаясь выскользнуть, но намертво прижал ее к кровати. Там внизу было так тесно, горячо, все пульсировало и горело. Я не мог понять, где находился центр моего наслаждения в эти мгновения, и в голове все плыло, и внизу все растекалось сахарно-карамельным сиропом. Одной рукой я по-прежнему зажимал ей рот, другую завел ей за спину и крепко обнимал. Господи, ей больно, а я не останавливаюсь, я животное! Я это понимал и все равно продолжал. Сколько это длилось, секунду, минуту, час, вечность, не знаю, я потерял счет времени. Неожиданно внизу что-то взорвалось, и в голове рванул фейерверк. Без сил я упал на Бекки.
Через некоторое время я обрел способность мыслить. Меня окатило волной ненависти к самому себе, я боялся посмотреть на Бекки. Обидел, милая, милая, милая…
– Виланд, – она нежно позвала меня.
Я поднялся на руках и взглянул на ее заплаканное лицо. Она не выглядела обиженной или расстроенной, ее лицо светилось любовью. И я разрыдался.
Она гладила меня по голове, пытаясь успокоить. И лишь через некоторое время я сумел взять себя в руки.
– Тебе было очень больно?
– Это ничего, – проговорила она, – я знала, что так будет. Магда говорила Грете, что в первый раз всегда так. Это ничего, – повторила она. – Скажи, тебе было хорошо?
– Очень, – признался я.
Измученное лицо Бекки просияло.
– Как я рада, а мне было в душе́ хорошо. Это было чувство такого единения, которое я даже представить себе не могла. Виланд, ведь мы с тобой теперь настоящие муж и жена.
Я кивнул со всей серьезностью и поцеловал ее в лоб, покрытый испариной.
Мы еще полежали немного и начали собираться. Еще не хватало, чтобы родители Бекки застукали нас.
На простыне алело небольшое пятнышко. Мы убрали ее, и Бекки принесла новую, которую мы постелили на место прежней, а старую я свернул в тугой узел, решив забрать с собой.
Бекки достала из своей маленькой сумочки кусок стекла.
– Зачем это? – удивился я.
– Хочу поклясться тебе на крови в своей вечной верности, ты сделаешь для меня то же самое?
Я не раздумывал ни секунды. Схватив стекло, я полоснул по ладони сильнее, чем следовало. Бекки испуганно вскрикнула.
– Зачем же так сильно?
Мы оба рассмеялись от моей глупости. Я прижал к кровоточащей ладони простыню, которую собирался забрать. Бекки сделала осторожный надрез на указательном пальце, и мы приложились друг к другу.
Домой я шел, будучи все еще не в силах уложить в голове случившееся. Словно одурманенный алкогольными парами, я придурковато улыбался каждому встречному, не различая, впрочем, их лиц. В каждом я видел только одно лицо. Оно стояло у меня перед глазами, даже когда я закрывал их. Я был счастлив и полон намерений объясниться с родителями Бекки перед отъездом, когда приду ее провожать. Конечно же, я не расскажу им обо всем, кое-что касалось лишь нас с Бекки, – я вновь улыбнулся. Скажу им, что люблю их дочь и намерен жениться на ней, когда она станет постарше. Вернеры показались мне людьми умными, здравомыслящими и современными, уверен, они не станут препятствовать переписке с их дочерью, надо будет записать их точный адрес. А зимой я обязательно к ней поеду, а там и до лета недалеко, а значит, и до ее пятнадцатилетия, а совсем скоро и шестнадцать исполнится, а мне восемнадцать, я пойду работать, чтобы она ни в чем не знала нужды… Замечтавшись, я споткнулся и со всего маха плюхнулся в зловонную лужу, но даже это не испортило мне настроения. Кое-как отряхнувшись, я пошел дальше, продолжая улыбаться как блаженный, будучи не в силах поделить себя между сладостными мыслями о будущем и не менее сладостными впечатлениями от произошедшего. Меня распирало от эмоций.
Ночью я спал отвратительно. Все тело горело, глаза слезились, в ушах стучало. Левая рука поначалу немного ныла, но с каждым часом боль становилась все острее. Когда рассвело и в комнату пробились первые лучи солнца, я с трудом поднял больную руку. Ладонь была красная и опухшая, рана от пореза воспалилась и кровоточила. Я попытался вытереть ее кончиком одеяла, но боль была нестерпимой. На белом одеяле, помимо свежей крови, остались какие-то темные зловонные сгустки.
Я попытался встать, чтобы позвать тетю Ильзу, но голова закружилась, и я рухнул на пол.
Дальше все происходило урывками – я почувствовал, как меня подняли и уложили, и снова наступила темнота. В какой-то момент случился небольшой проблеск, во время которого незнакомые голоса пробились до моего воспаленного сознания:
– Возможен сепсис. Будем отрезать…
– Не позволю! – Твердый голос тети Ильзы.
– Тогда я не ручаюсь за жизнь мальчика.
Я чувствовал, что в моей руке копошатся тысячи, тысячи тысяч кровожадных муравьев, они терзали и раздирали мою руку, сосали и жрали мою плоть, а потом резко прекратили. Я ничего не чувствовал, словно на месте моей руки была пустота.
Сколько я так пролежал, не знаю. Просто однажды открыл глаза и понял, что нахожусь в полном сознании. Неимоверно хотелось пить, я провел липким языком по губам, они были сухие и потрескавшиеся. Позвал тетю, но из горла вырвался едва слышный хрип. Я боялся повернуть голову в сторону больной руки, так как не чувствовал ее. Боялся увидеть там пустоту.
Скрипнула дверь, и надо мной склонилось изможденное лицо тети Ильзы.
– Виланд, мальчик мой, ты очнулся. Как твоя рука?
Я все же повернул голову. Слава всем святым! Конечность была на месте, перебинтованная, с посеревшим плечом, но до кончиков отросших ногтей вся в сохранности.
– Можешь пошевелить ею? – спросила тетя.
Я попытался, но она была словно чужая, лишь слегка дрогнули пальцы. Увидев это, тетя довольно кивнула.
– Хорошо, доктор Лееч предупреждал, что так и будет. Но чувствительность есть, это хорошо, мой мальчик.
– Пить, – прохрипел я.
Тетя налила из кувшина воды и помогла мне напиться. Это отобрало у меня все силы, и я измученно откинулся на подушки.
– Где Бекки? – спросил я.
Тетя непонимающе нахмурилась.
– Какая?.. А, дочка Вернеров? Они уехали из города дней десять назад.
Я закрыл глаза. Если бы я не был так слаб, я бы, наверное, расплакался. Десять дней назад, моя Бекки, ее увезли, и мы даже не попрощались. Я лежал, отчаянно жалея и ее, и себя, пока наконец не утвердился в мысли, что разыщу ее во что бы то ни стало, едва выздоровею, и этим успокоил себя хоть на время.
Когда я сумел встать, то первым делом поплелся к высокому зеркалу. Взглянув в него, я устрашился того, что увидел. Я не узнавал себя: изрядно похудел, лицо, округлившееся и разрумянившееся за лето, вновь вытянулось, осунулось и приобрело пыльный оттенок, под глазами залегли темные круги.
Проведя в кровати и в кресле еще несколько дней, я убедил тетю, что мне необходимо подышать свежим воздухом, и сразу же направился к дому, где жили Вернеры. Я не тешил себя надеждой, что они вернулись, я лишь хотел разузнать, куда они уехали. К моему великому счастью, женщина, присматривающая за домом, узнала меня. Без долгих уговоров она дала мне мюнхенский адрес Вернеров.
Через неделю тетя Ильза отправила меня домой, а сама начала собираться в Берлин, где по обыкновению проводила зимы.
По пути в Розенхайм я думал только о Бекки: где она сейчас, что делает, думает ли обо мне?
Увидев меня, мать испуганно всплеснула руками и запричитала:
– Господи, Виланд, что Ильза с тобой делала, морила голодом?!
С тетей Ильзой мы сговорились ничего не рассказывать родителям, а потому я поспешил успокоить мать:
– Все в порядке, была легкая простуда.
Я с трудом дождался окончания ужина, чтобы убежать в свою комнату и начать писать письмо Бекки. Но уже первая строчка ввела меня в замешательство. Как начать? Я написал «Любимая Бекки», затем подумал и смял листок, – а вдруг письмо увидит ее мать. На чистом листе я написал «Милая Бекки». Посмотрел и понял, что и это тоже не годится. «Бекки». Да, пусть будет так.
Я слышал, как зазвенел дверной колокольчик, понял по голосам, что пришли Отто и Макс, очевидно, узнавшие о моем возвращении, слышал и то, как мать не самым любезным тоном сообщила им, что я занят. Я и не думал выходить из комнаты, мне было наплевать и на Отто, и на Макса, и на мать. В этот момент весь мой мир был сосредоточен в листе, лежавшем передо мной на столе, на котором пока было выведено лишь одно милое сердцу имя. Я подробно описал Бекки, что со мной приключилось и почему я не пришел с ней попрощаться, заверил, что сейчас со мной уже все в порядке, и под конец выразил надежду, что у нее тоже все хорошо и она ответит мне как можно скорее. Перечитав еще раз, я убедился в нейтральности своего тона. Уже было поздно бежать на почту, и я спрятал письмо под подушкой. На следующий день я первым делом отправил его.
Сменялись дни, тягучие, бессмысленные, похожие один на другой, а ответ не приходил. Я донимал Карла-почтальона, срывался на матери, что-то бубнил, когда меня спрашивал отец. Мне было не до них. Выждав некоторое время, я написал еще одно письмо, но и оно осталось безответным. Неужели Бекки обиделась, что я не пришел с ней попрощаться? Но ведь я все объяснил в письме. Может, я неправильно записал адрес? Десятки объяснений молчания Бекки роились у меня в голове и не давали покоя. Я истосковался, мне было физически необходимо увидеть Бекки, а у меня не было даже ее карточки, черт бы меня побрал…
После затяжной болезни я выглядел особенно невзрачно на фоне своих друзей. Я начал посвящать много времени возвращению былой формы: каждый день бегал и упражнялся. Так я убивал сразу двух зайцев: тренировался и отвлекался от мыслей о Бекки, что в любое другое время сделать было практически невозможно. Часто Отто составлял мне компанию, мы убегали в парк и после часовой пробежки затевали борьбу, изрядно осторожничая, конечно, чтобы не навредить друг другу. На радость отцу я начал заниматься и греблей. С командой мы ездили на озеро Кимзее, где я тренировался до одурения и вскоре стал основным загребным в своей восьмерке. Успехи на межшкольных соревнованиях не заставили себя ждать, но меня прельщали не столько радость побед и сияющие жестяные кубки, сколько возможность задавать ритм семи парам рук, быстро и слаженно работавшим за моим корпусом, и ощущение, что веду их за собой именно я. Ну а собственные руки, крепчавшие с каждым днем и бугрившиеся под рубашкой, стали приятным дополнением к этой новой страсти.
Так пролетела зима, за ней пришла такая же торопливая и слякотная весна. Она еще не вступила в свою прелестную стадию липкой зелени и приятного тепла, но была промозглой и ветреной, – я шел из школы с Отто, впереди мы увидели долговязую фигуру Макса, старательно перепрыгивавшего лужи. Он нас тоже заметил и ускорил шаг нам навстречу. Вместо приветствия он молча протянул какую-то листовку. Я начал читать: «…мы, рабочая часть движения, самые счастливые и довольные. Мы готовы праздновать и кричать от радости, узнав, что наш заботливый Гитлер потратил десять тысяч на новенький "мерседес", а мюнхенское руководство строит себе особняки да с помпой перестраивает квартиры, заботясь больше о личных архитектурных проектах, нежели о народе. Нам нравится голодать, особенно зная, что наши фюреры получают по пять тысяч марок в месяц. Мы радуемся за их меню: заграничные деликатесы, птичьи языки да акульи плавники с лучшим французским вином и шампанским. Мы восхищены, что средства партии идут на перестройку и отделку Коричневого дома[32], низкий поклон архитектору Троосту. Мы испытываем истинное наслаждение, зная, что Гитлер большую часть времени шатается по стройкам, ателье, кафе и ресторанам в сопровождении своей свиты…»
– Что это? – хмуро спросил я.
Сердечные страдания на долгое время отвлекли меня от важных событий, происходящих вокруг. Во время жарких споров друзей я оставался больше безмолвным слушателем, погруженным в свои мысли и терзания по Бекки. Но пришло время окончательно позабыть девчонку, не желавшую меня знать, и вспомнить о действительно важных делах.
– Это раскол партии. Эту дрянь распространяют штурмовики. – Макс быстро спрятал бумажку в карман. – Эрих сказал, в их рядах серьезное недовольство, они отказываются участвовать в партийных маршах. Хороши же отряды. Только позорят партию.
– Я слышал, это оттого, что зимой им не выдали теплую обувь, они мерзнут, – поразмыслив, проговорил Отто, – половина из них безработные. Некоторые откровенно голодают.
– Многие голодают, не только они, – проворчал Макс, – чертов кризис. В Германии сейчас пять миллионов безработных. Многие думали, что в штурмовых отрядах им сытно будет, вот и ринулись туда за бесплатными пайками, но сколько ж денег нужно, чтобы задарма кормить столько прожор?
Это была причина, по которой я недолюбливал коричневорубашечников[33]. У меня создавалось стойкое убеждение, что, в отличие от СС, они вливались в партийные ряды не по идейным соображениям, а из любви к бесплатной жратве. Возможно, мне было легко так рассуждать, ведь каждый день я получал сытный завтрак, обед и ужин, уж не знаю, чего моим родителям это стоило, но нужно было отдать им должное – в нашем доме голодные времена не ощущались. Правда, было у меня подозрение, что немалую роль в этом сыграла помощь состоятельной тети Ильзы. Я никогда не задавался вопросом, откуда у тетки столько денег, кем был ее муж, когда и отчего он погиб, я не припоминал, чтобы когда-нибудь видел его, хотя до прошлого года я и с теткой-то не так часто виделся – ее краткие визиты к нам в Розенхайм можно было пересчитать по пальцам. Но как бы то ни было, я был уверен, что не будь у меня регулярного обеда, я бы и тогда не позорил честь партии подобным мещанским нытьем. Это уж как пить дать.
– Глядишь, народ, задавленный нуждой, и поверит этим бумажкам, – проговорил Макс, похлопав себя по карману, в котором спрятал листовку.
– А с другой стороны, хочется уже во что-то поверить, – пожал плечами Отто, – миллионы сидят без работы, уж я-то знаю, мать пятый месяц обивает пороги за пособием, жрать скоро будет нечего.
Макс недовольно сплюнул и проворчал:
– Сами еле зиму протянули. Довели народ до края, полнейший развал и разруха.
Я посмотрел на Отто, затем на Макса, переминавшегося в рваных ботинках.
– Все проклятая республика, Макс, эти позорные трусы поставили нас на колени, потому и надо голосовать за нацистов, – с жаром проговорил я, – Гитлер не боится прямо слать к чертям Версаль с его репарациями. Уж он-то покончит и с республикой, и с коррупцией, и с евреями, и работу даст каждому немцу, тогда-то уж все нажремся досыта.
– Оно-то все так, – согласно кивнул Макс, – и ты знаешь, как надобно, и я знаю, как оно верно, да только у власти все не те. Президент Гинденбург чурается Гитлера, как чумной собаки. А оно и немудрено, учитывая, как штурмовики позорят партию.
– Выше нос, Макс. Выиграем выборы и еще посмотрим, кто кого будет чураться!
Мы распрощались с Максом, и каждый пошел домой.
С наступлением лета родители заставили меня задуматься о дальнейшем образовании.
– Учеба не ограничивается одной лишь школой… – начала мать лекцию, которую я благополучно пропустил мимо ушей.
Как будто я и сам не знал, что учеба – это не только школа. Но у меня впереди был еще целый год на раздумья, и я не желал забивать голову лишними мыслями раньше времени. Впрочем, год тот летел довольно быстро. На Рождество тетя Ильза прислала нам подарок – радиоприемник! Я с благоговением поглаживал деревянный корпус, пока отец крутил ручку, настраивая звук. Вскоре раздалась тихая мелодия, изредка перебиваемая легким треском. Мать восторженно захлопала в ладоши. Глядя на нее, отец тоже не сдержал улыбку.
Позже родители ушли на праздничный обед, который устраивал директор Штайнхофф. Едва за ними закрылась дверь, как я начал крутить ручку приемника, пока сквозь треск не пробился резкий голос. Я сразу узнал его. Это австрийское металлическое звучание я слышал уже не раз. Из-за него не сразу замечалось, что голос у его обладателя был на самом деле мягкий.
«Четырнадцать долгих лет различные партии насиловали германскую свободу со всей возможной жестокостью, избивали настоящих немцев дубинками, предавали народ и обрекали его на голод и позор. Пришла пора положить этому конец…»
Он облекал такие простые и в то же время правильные мысли в идеальную словесную форму. Это был восторг, чистый восторг. Его голос проникал в мое сознание, цеплялся за самые его глубины и воспалял мой мозг. Я завороженно слушал, ничего не видя перед собой. Постепенно он входил в раж, модуляции его голоса повышались. Я уже видел, как он умывается собственным потом, доводит сам себя до состояния бессилия, близкого к изнеможению, как орошает микрофон слюной. Он заговорил еще быстрее. Слова лились, и каждое было похоже на искусный выпад фехтовальщика, коловшего точно в цель, а затем молниеносно отступавшего на шаг назад, чтобы сам слушатель осознал, что поражен словом в самое сердце. Этими выпадами он постепенно загонял внимавшего ему в какой-то экстаз, в измерение, где тот переставал быть самим собой, но становился сгустком веры в источник этого голоса и в то, что он приведет Германию к величию.
«Настало время прекратить этот террор. У нас не будет места чужеземцам, нам не нужны паразиты, хватит их кормить. Нужно направить все усилия на оздоровление нации!»
Каждое слышимое мной слово было словно ниспослано свыше, оно было откровением, истиной. Не знаю, в какой момент моя рука оказалась в штанах, но я ничего не мог поделать. Возбуждение было таким сильным и неожиданным, что я не мог с ним справиться. Я задвигал рукой, чувствуя, как капли пота стекают уже по моему лбу. С каждым его словом, с каждым моим движением меня пронизывало насквозь и топило в пучине бесстыдного восторга.
«Настало время героической идеологии, которая осветит идеалы будущего Германии. Политическая борьба будет жесткой, но открытой…»
Он окончательно перешел на крик, и в этот момент пронзительная судорога свела мое тело. Не устояв на ногах, я рухнул на колени. Скрючившись и все еще подрагивая, я наполнял свою ладонь горячим и липким семенем.
Голос прервался. Я видел его руку, стиравшую пот с напряженного лба, прилипшую прядь его темных волос. Я все видел. Я был там с ним. Я всегда буду с ним.
Я продолжал стоять на коленях, постепенно приходя в себя. Тяжело дыша, я осторожно вытащил руку из штанов. Придерживаясь за стену, встал и огляделся в поисках подходящей тряпки. На глаза попалась старая газета, я вытер об нее руку, смял и выкинул. После паузы голос из радиоприемника перешел к жесткой критике Веймарской республики.
После долгих дней, полных страданий по милой Бекки, я наконец сумел заставить себя не думать о ней ежеминутно. Ни на одно из моих писем она так и не ответила, моя грусть сменилась непониманием, непонимание – обидой, а на смену обиде пришла злость, которая постепенно начала затягиваться забвением. С каждым месяцем я все реже воскрешал в голове светлый образ маленькой хрупкой девочки, гуляющей по парку в Бад-Хомбурге, лишь иногда по ночам сердце судорожно сжималось при воспоминании о том дне, когда мы «обручились». Но вскоре и это сошло на нет.



