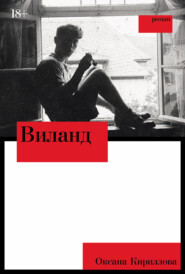
Полная версия:
Виланд
Название партии крепко засело у меня в голове.
Дома мать уже накрывала ужин. Я сел за стол и молча наблюдал за ней. Расставляя тарелки, она спросила, о чем я думаю.
– О евреях, – неожиданно выпалил я.
Мать замерла с тарелкой в руках и озадаченно посмотрела на меня.
– Они распяли Иисуса, из-за них у многих немцев нет работы, и вообще войну мы тоже из-за них проиграли, еще газеты, журналы, радио тоже под их контролем, еврейский капитал и заговор… это тоже…
– Что тоже?
Мы с матерью одновременно обернулись. В дверях стоял отец. Я напряженно смотрел на него исподлобья.
– Ты знаешь, – наконец проговорил я.
– Нет, поясни. – Вопреки моим ожиданиям, он был совершенно спокоен.
Прошел и сел за стол напротив меня. Мать снова засуетилась с тарелками.
Я никак не мог собраться с мыслями, чтобы пересказать то, что говорил мотоциклист. Вся волнующая информация бушевала у меня в голове и выплескивалась какими-то обрывками.
– Их вожди еще при царе Соломоне вступили в сговор против остальных народов и договорились подчинить себе всю торговлю и финансовую систему нашего мира, а для того они расползлись по всему миру и внедрились во все народы, чтобы подрывать их благосостояние изнутри. Своими кровавыми и вонючими щупальцами они всасываются в чужое, но делают это незаметно, а потому до сих пор, спустя тысячи лет, наш народ не осознаёт, в чьей он власти.
Отец слушал меня внимательно, не перебивая. Когда я умолк, он еще немного помолчал, глядя на меня, и наконец проговорил:
– Еврейский заговор против всего немецкого народа, в это нам верить теперь? Когда правительство не способно наладить то, на что подвизалось, и тащит нас в тартарары, другие теперь хотят нас этим задурить и переманить? Что ж, извечный прием. Да только дураков нет. Порядок нужен да честь, а не заговоры выдумывать.
– А газеты? Они захватили все печатные органы, и теперь нет никакой свободы прессы. Они печатают что им надобно, а мы…
– Свобода прессы, сынок, понятие довольно относительное. Эта свобода заключается в свободе владельца газеты выражать свои интересы, только и всего. Уж кто бы ни был ее владельцем – еврей ли, немец, социалист, коммунист или эти новые горячие крикуны в коричневых рубашках, – всякий будет свое двигать, а коль скоро его попытаются урезонить, так мигом возопит о свободе слова. Да только своего слова. – Отец усмехнулся. – Последнее дело читать те газеты. Да и другие тоже не надобно, сынок. Я вот Шиллера из библиотеки принес, дать тебе?
– Как ты не понимаешь?! Евреям только прибыль нужна, плевать им на Германию, и на немцев плевать. Они обманывают честных людей ради наживы. Почти все лавки их, и там они занимаются всяким жульничеством. Спекулируют… по завышенным ценам продают нам плохой товар. Все потому, что евреи хотят легкой жизни. Тяжело работать – это не для них.
– Плохой товар? – Отец задумчиво посмотрел на мать, которая нарезала хлеб. – Я купил этот хлеб в лавке Штокманов вчера. Утром ты с аппетитом уплетал его с вареньем и сейчас, думаю, не откажешься. Так ли уж он плох? Ты можешь удивиться, почему я сейчас покупаю именно у них, ведь их лавка дальняя, но у них дешевле, совсем немного, но когда каждый пфенниг на счету, то и это радует. Ты говоришь, не хотят работать, а лавка как же? Разве она сама по себе существует? Разве в ней не нужно работать?
Я шумно выдохнул, все больше распаляясь от спокойного и чуть насмешливого тона отца.
– Я сказал, они не хотят по-настоящему работать, руками на земле, понимаешь? Хлеб они сами не взращивают, а покупают дешево у крестьян и продают дорого горожанам. Нам, отец!
– Так ведь им на протяжении веков запрещено владеть землей. Начни кто-то из них возделывать землю, «тяжело работать», как ты говоришь, его бы тут же обвинили в нарушении закона, оштрафовали и отправили б в тюрьму, понимаешь? А насчет Иисуса – тут ты прав, нехорошо вышло, сынок.
Мать тихонько прыснула со смеху и села рядом.
Ужинал я молча и в злобе.
Вернувшись как-то домой после школы, я застал у нас гостя. На вид ему было лет тридцать пять – сорок, судя по всему, бывший вояка. Высокий лоб, мясистый нос, недобрый взгляд, приметная родинка на щеке – он мне сразу не понравился, да и вел себя странно: был возбужден, говорил излишне резко, порывисто. «Армейский приятель отца», – шепнула мать.
Не привлекая к себе внимания, я сел с тарелкой в углу стола. Мать пододвинула мне хлеб, и я принялся за еду.
– Помнишь, как при Ипре? – проговорил гость.
– Помню, – невесело кивнул отец, – и Ипр помню, и у Нёв-Шапель пришлось туго.
– Там-то тебе клюв и подпортили, – хлопнув отца по плечу, расхохотался незнакомец.
Отец усмехнулся, потирая свой искривленный нос. Мать нахмурилась, но вмешиваться не стала. Она достала из шкафа бутылку шнапса и поставила на стол. Гость одобрительно кивнул.
– Как Берта и дети поживают? – поменял тему отец.
Видно было, что воспоминания о войне были ему неприятны.
– Да что им сделается, живы-здоровы.
– Сколько им уже, Теодор? – Мать присела рядом с мужчинами.
– Ирме уже… – Гость задумался, высчитывая в уме: – Ирме уже двенадцать, а Герману, выходит, недавно восемь исполнилось.
– Как время летит, – проговорила мать, – уже такие взрослые.
– Да уж, мою молодость сожрали, скоро свою будут прожигать, – проговорил гость с усмешкой.
– Не говори так, Теодор, дети – это счастье, – покачала головой мать.
– Эх, Герти, когда-то для меня счастьем было поступить в техническое училище, так нет же, выяснилось, что эта курица вновь беременна. Только и разговоров было: ты должен кормить семью, ты должен зарабатывать, иди на службу, забудь об учебе… – Теодор распалялся все больше и больше. – В конце концов, могла бы и позаботиться, чтобы без последствий. Вы же, женщины, знаете разные штуки, чтобы предотвратить…
Мать положила ладонь ему на плечо и погладила, стараясь успокоить.
– Тише, Теодор, здесь ребенок. – Она кивнула в мою сторону, но гость даже не посмотрел на меня.
Я сделал вид, что их разговор мне совершенно не интересен.
– Так ты по-прежнему в «Фарбене» работаешь? – отец, не любивший неловких ситуаций, опять переменил тему.
– Да, с химиками все более-менее стабильно, – вновь расхохотался Теодор, уже через секунду позабывший свои печальные мысли, – эти ценят решительного и исполнительного офицера, да и работа по мне, не помню, говорил ли тебе, меня перевели в службу безопасности.
– Нет, не говорил, – отец покачал головой.
У меня все больше создавалось впечатление, что приятель отца – психически неуравновешенный, и даже если бы он нес откровенную чушь, родители бы с ним соглашались, только бы не злить и не расстраивать его. В то же время я видел жалость в глазах матери, когда она смотрела на гостя; хотя она жалела всех без исключения, но сейчас в ее взгляде застыло особенное сострадание. Она все еще поглаживала Теодора по плечу, и отца сей факт нисколько не смущал.
– Вот так, Эмиль, после десяти лет службы я оказался не нужен своей родине. Обременен семьей, выброшен на улицу, вынужден пополнить ряды сотен тысяч фронтовиков, преданных тылом, и все из-за этих проклятых социал-демократов, коммунистов и евреев, проклятая Веймарская республика! – Он ударил кулаком по столу так, что бутылка со шнапсом, выставленная матерью, зазвенела. – А химическому концерну я оказался нужен! – И Теодор вновь зашелся своим грубым раскатистым смехом.
Я уже перестал изумляться резким перепадам в его настроении.
Отец разлил шнапс, и Теодор на время смолк. Выпив, он повернулся к отцу и проговорил уже спокойнее:
– Эмиль, я ведь к тебе с делом. Я в партию вступил. – Теодор полез во внутренний карман и бережно извлек билет с фотографией.
Я вытянул шею, стараясь разглядеть документ.
– Все-таки примкнул к ним, – покачал головой отец, разглядывая партийный билет, – к штурмовикам?
Тот кивнул:
– Но это еще не все, я присматриваюсь к другому партийному формированию.
Он посмотрел на отца странным взглядом.
– Охранные отряды, – догадался тот, – слышал, там строжайший отбор. Ты по возрасту не проходишь, – отец с сомнением покачал головой.
Теодор резко выхватил у него билет и тут же спрятал его в карман.
– Возраст не главное, главное, что здесь и здесь, – он поочередно ткнул себя в голову и в грудь. – Эмиль, тебе нужно присоединиться к нам. За нами будущее. Вот увидишь, партия поднимет Германию с позорного дна, на котором мы оказались по милости засевших в тылу прохвостов. Это не просто политическая партия, это выплеск всех чаяний истинных немцев, то, чего мы все давно ждали. Кто мы сейчас в глазах мира? Неудачники! Но скоро все поменяется, партия даст нам знатный толчок в нужном направлении, вот увидишь, Эмиль.
– Что нового она нам предложила? – пожал плечами отец. – Все те же клятвенные обещания экономического чуда да ругань евреев. Было уже. Одно хорошо, ваши национал-социалисты хоть прямо не призывают молодежь убивать евреев, как в Лиге защиты и сопротивления.
– Вот еще, мараться об них, – поморщился Теодор.
Отец выразительно посмотрел на гостя, и тот поспешил продолжить:
– Ты должен понять, что сейчас идет становление, мы растем, как все живое. И те, кто будет с партией у истоков, вырастут вместе с ней, и это уже не шутка, если ты понимаешь, о чем я.
Я окончательно позабыл о еде и, уже не скрывая любопытства, откровенно слушал их разговор. Теодор говорил:
– И ты, и я, и наши с тобой семьи, и семьи тысяч других достаточно нажрались дерьма, мы отдали этой стране все, что у нас было, нашу молодость, силы и веру, и что мы получили взамен? Жалкие местечки-подачки, с которых нас гнали поганые социал-демократы, занявшие лучшие посты при республике. Нам, старым воякам, не нашлось места даже в рейхсвере[24], который ныне – откровенный позор, жалкая тень былой великой армии. Но время все исправит, расставит по своим местам, и те, кто вовремя примкнул к истине, кто поддержал ее власть в самом начале и пошел с ней вперед без страха и оглядки, те будут вознаграждены сполна. Ты уж поверь мне, Эмиль, поверь. Мы вернем наши земли, необходимые для процветания народа, я говорю сейчас о тех, в чьих жилах течет густая, истинно немецкая кровь. Мы выкинем всю иностранную шваль, живущую на нашей земле и пользующуюся благами, принадлежащими нам по праву рождения. Уничтожим все нетрудовые и…
– Теодор, – отец вскинул руку, пытаясь унять словесный поток гостя, – Теодор, ты говоришь по написанному. Эти двадцать пять пунктов[25] мне хорошо известны. Довелось мне ознакомиться с литературным трудом вашего руководителя. Отвратительный материал. Такого надругательства над немецким языком я давно не встречал. Поразительные стилистические ошибки сочетаются с лексикой нерадивого школьника. Но одного у автора не отнять: энергия и целеустремленность у него неуемные. У нас в школе уже провели агитацию, среди старших ребят эта зараза распространяется со скоростью света. Хорошего я в этом не вижу, молодежь разбушевалась, ведут себя так, как будто им все дозволено, носят ножи, пугают сверстников, называют это агитационной работой.
Отец бросил на меня выразительный взгляд, и я тут же опустил голову, уставившись в тарелку.
– Зараза?! – возмутился Теодор, словно не слышавший, что отец произнес после этого слова. – Мы говорим о будущем нашей родины, твоей и моей, Эмиль! Ты считаешь, что социалисты накормят твоего сына? Или коммунисты приведут нас к стабильности? Не будет у нас ни того ни другого с таким подходом! – Его лицо начало багроветь. – Скоро и рейхсвер пойдет за нами. Любой, кто хоть раз надевал форму, жаждет отмыться от унижений этих лет. Может, в открытую они еще опасаются, но, скажу тебе по секрету, уже каждый второй юнец из кадетского училища за нас. Все хотят мяса, пива и хлеба, вместо этого жрут позор здоровенными ложками по милости прохвостов, заседающих в рейхстаге[26].
– К восстанию, значит, призываете…
– Поход на Берлин неминуем! Помилуй, это уже каждой домохозяйке ясно. В своей ненависти к берлинским крысам вчерашние соперники станут союзниками, а Гитлеру под силу объединить их и повести за собой. Ты бы его слышал! Когда этот человек выступает перед толпой, это уже не человек. Это пророк! Он превращается в нечто сверхчеловеческое, стоящее над всеми нами. Натурально, мессия великой Германии. За ним пойдут, Эмиль, помяни мое слово. За ним пойдут. После Ландсберга[27] он стал только сильнее, вся та шумиха с путчем пошла ему на пользу. Даже самые далекие тогда всё поняли. Этого парня полюбили уже во всех слоях, от простых трудяг до толстопузых промышленников, хоть и не у всех еще есть смелость сказать об этом вслух, ну ничего, эта скромность вылечится. Я тебе по секрету скажу: у него в кармане уже и министр юстиции, и глава полиции, информаторы в каждом министерстве. В открытую уже никто не решается пресекать нацистские демонстрации, все путем переговоров и увещеваний, знают, что полицейские вот-вот перейдут под знамена штурмовиков. И это только начало. Вникни, Эмиль, сегодня эти люди еще раздумывают, к кому примкнуть, а завтра выстроятся в очередь, и уже мы будем выбирать, брать их с собой в славный путь или нет. И уж поверь, тугодумы, не способные пораскинуть мозгами и верно оценить баланс сил, потом крепко пожалеют.
Отец внимательно слушал, он не перебивал, но так ни разу и не кивнул. Стоило гостю умолкнуть, как он протяжно вздохнул, набирая воздух. Я с тоской уставился в тарелку – сейчас начнется.
– У истоков славного пути ненависть не должна лежать, Теодор. Объединяет, говоришь? Так это до поры до времени, а потом это станет гидрой, пожирающей собственные головы, и никому добра от этого не будет. Мюнхен как червивый плод сейчас, разъедается заговорами и контрзаговорами. Город пухнет от митингов и стычек, кишит шпиками, которые уже и сами запутались, кому и на кого доносить. Немудрено, что в такой ситуации он легко задурил головы растерянным людям своими речами.
– Для того чтобы обычные речи достигли такого эффекта, они должны попасть в уши, жаждущие слышать. Вникни, Эмиль, вникни! Народ жаждет. Твой народ.
Отец покачал головой, уже не обращая внимания на настроение гостя.
– Не знаю, Теодор, не знаю. Я и тем не верю, и от этих добра уже не жду. По мне, так лишь бы не хуже, чем сейчас. И главное, чтоб не обратно к войне.
В этот момент мне казалось, что я могу собственноручно задушить отца. В моих глазах он выглядел самым жалким и трусливым существом на свете. Сидящий на крошечной кухне в опрятной, но застиранной одежде, усталыми глазами глядящий на окружающий мир и ничего не желающий, а самое страшное, даже боящийся уже что-либо желать, – я содрогнулся при осознании, что когда-нибудь могу стать таким же, но еще более меня угнетало понимание, что он не одинок в своих мыслях и таких, как он, может быть, тысячи – страшащихся что-либо предпринять для изменений к лучшему.
Я с остервенением размазал по столу хлебный шарик, который катал до этого.
– Не хуже, чем сейчас, Эмиль?! Да нас имеет всяк, кто хочет. Вспомни, как в двадцать третьем французы и бельгийцы оккупировали Рейн, когда нам уже нечем было выплачивать эти проклятые репарации. Что сделало наше хваленое правительство? Ничего! Не было ни сил, ни решительности. Разве таких вождей заслуживает великий германский народ?
Отец ничего не ответил.
Гость остался у нас на ночь, мать постелила ему в единственной свободной каморке на первом этаже. Утром он тепло распрощался с родителями и вышел из нашего дома; я уже ждал его на улице. Увидев меня, он молча кивнул и собрался пройти мимо, но я преградил ему дорогу.
– Я видел, как вы вчера показывали свой партийный билет отцу, – проговорил я прямо.
Он уже внимательнее окинул меня взглядом и осторожно произнес:
– Положим.
– Пожалуйста, – горячо заговорил я, – помогите и мне вступить, что для этого нужно? Я хочу принести пользу своей стране.
– Сколько тебе лет, сынок?
– Почти шестнадцать. – Я тут же расправил плечи и выпятил грудь.
В действительности в то время мне было только пятнадцать, но выглядел я на все восемнадцать. Я был физически развит, высок и силен и часто ловил на себе особые взгляды девушек, природу которых в силу возраста или пуританского воспитания не понимал, отвечая широкой наивной улыбкой.
Гость покачал головой.
– Ты еще слишком молод, мой мальчик. Не могу я без разрешения отца распорядиться твоей судьбой. Хоть он и превратился в самодура, но все же он по-прежнему мой друг, спасший когда-то мою шкуру.
Я резко сник, настроение у меня вмиг испортилось. Даже в свое отсутствие отец умудрялся портить мне жизнь. Видя мое разочарование, Теодор порылся в своем портфеле и что-то достал.
– Нá вот, возьми почитай, только отцу не показывай, очень уж он у тебя трепетный стал к таким вещам.
Он протянул тонкую книжицу. На мягкой потрепанной обложке большими буквами было отпечатано название партии, под ним был нарисован мотыгообразный крест, обведенный толстым кругом. Я тут же спрятал брошюру под рубашку. Он быстро кивнул, затем хотел было сразу идти, но на мгновение все же задержался и крепко пожал мне руку. И направился в сторону вокзала. Я еще долго смотрел вслед этому высокому человеку с тяжелой походкой, будучи, к своему сожалению, почему-то уверен, что больше никогда его не увижу.
Мне понадобилось менее часа, чтобы проглотить брошюрку от корки до корки. «Арийцы – элита белой расы. Сподвижники прогресса, мыслители, творцы, воины – высшие создания природы. Сверхлюди». Я тихо шевелил губами, жадно поглощая строчку за строчкой: «…как никакой другой народ, они имеют право на лучшее жизненное пространство…» Держать полученную информацию в себе было выше моих сил, мне необходимо было с кем-то обсудить прочитанное. На следующий день я рассказал обо всем Отто, своему школьному приятелю. Тот передал остальным. Мы начали слушать радио, читать газеты, выуживать информацию о деятельности партии где только можно, а после уроков бурно обсуждать последние новости и свои мысли на этот счет. Мы осознали, что именно мы избраны для того, чтобы переломить отчаянную ситуацию, в которой оказалась Германия, потому что мы – немцы и уже по одному этому имеем право. Само провидение было за нас, поскольку наделило нас силой и властью над остальными, и пришло время воспользоваться этим. Это кружило голову, заставляло кровь бежать быстрее, а сердце биться отчаяннее. Мы спорили, дрались, тут же мирились и мчались выплескивать энергию, которая хлестала через край.
Нам нужен был смысл, и мы нашли его.
Заводилой у нас был Эрих Штицель, ему уже исполнилось восемнадцать. Ходили слухи, что в школе он считался тупицей, заставлявшим даже самых терпеливых учителей бессильно опускать руки, но при этом он был невероятно амбициозен – нелепое сочетание, а потому я был склонен верить, что на Эриха наговаривали. Он был враждебен ко всему происходящему, что вело к недовольству и частым возмущениям, но при этом он всегда оставался необычайно серьезен. У него были огромные глаза, пристально ощупывавшие каждого пред ним, и низкий, чуть хриплый голос, заставлявший окружающих невольно умолкать и прислушиваться, даже когда он говорил тихо. Эрих был прирожденным лидером, я откровенно восхищался им. Он часто наведывался к родственникам в Мюнхен, и именно от него мы узнавали все последние новости из гущи событий. Часто он привозил с собой «Фёлькишер Беобахтер»[28], в которой я жадно прочитывал всякую новость об охранных отрядах[29]. Все обсуждали штурмовиков[30], которые наделали много шума своими выступлениями, а потому были постоянно на слуху, но для меня, как и для других мальчишек, именно охранные отряды стали чем-то манящим, новым. Если в штурмовики брали всех без разбора, и старых, и молодых, и слабых, и сильных, и, поговаривали, ради численности не чурались принимать даже пьяниц, то в охранные отряды был жесткий отбор. Это была самая настоящая элита, стать частью которой могли только лучшие из нас. Чтобы попасть туда, необходимо было соответствовать огромному количеству жестких требований, которые подробно перечислялись в газете. Там же была большая фотография отряда, которую я рассматривал с восхищением и завистью: внешний вид, выправка – всё свидетельствовало об их избранности. Еще бы, ведь они были приближены к первым лицам партии. К моему сожалению, даже имея идеальные характеристики, попасть в их ряды было сложно, так как численность этих отрядов была сильно ограничена, в отличие от формирований штурмовиков.
Зимой, после рождественских празднований, в этой же газете мы прочитали о назначении нового рейхсфюрера, возглавившего эти охранные отряды. Его карточка была напечатана рядом с сообщением, и я пораженно узнал в нем того мотоциклиста, который несколько лет назад приезжал в наш городок и рассказывал о евреях. Он изменился, стал полнее, глаза его спрятались за стекла небольших аккуратных очков, и тем не менее это был он, я мог поклясться. Поговаривали, что он еще больше усилил дисциплину в отрядах и распорядился принимать лишь тех, кто соответствовал не только самым строгим физическим критериям, но и расовым. Втайне каждый из нас мечтал, что именно он станет тем счастливчиком, который удостоится подобной чести. Эрих даже раздобыл где-то черные фуражки, и мы нарисовали на них черепа. Однажды я забыл снять эту фуражку перед домом, за что получил нагоняй от отца, но меня это ничуть не расстроило, наоборот, в тот момент я почувствовал себя истинным борцом за свои принципы и идеалы. И чем сильнее распалялся отец, тем бо́льшим бунтарем и повстанцем я себя ощущал. Но справедливости ради стоит отметить, что он так ни разу и не выпорол меня, как обещал.
– Это избранные, усёк, сопляк?
Было жаркое лето двадцать девятого.
В горле пересохло, необычайно хотелось пить, но было лень идти к колодцу за водой. Я бессознательно чертил в пыли какие-то кривые фигуры мыском ботинка и краем уха слушал, как Эрих поучал чем-то провинившегося Отто.
– А мы чем не избранные? – ввернул Отто.
Из присутствовавших здесь мальчишек Отто был единственным моим одноклассником.
Эрих с усмешкой покачал головой.
– Начать с того, что ты еще малявка. Туда берут настоящих мужчин двадцати трех лет от роду, у которых здоровье бычье и телосложение как у Берта.
Высоченный Берт был помощником в мясной лавке. Он тут же поиграл мускулами на своих руках-сваях, которыми запросто мог погнуть не самый тонкий железный прут.
– Здоровье у меня и так лучше всех, и на физвоспитании я самый быстрый, – тут же парировал Отто.
Эрих посмотрел на меня и приподнял брови. Я тут же подскочил и громко продекламировал:
– Внешний вид, выправка, поведение, железная дисциплина и расовая чистота! Хронические пьяницы, болтуны и лица с иными пороками не подлежат рассмотрению!
Отто ничего не ответил и хмуро уставился на свои башмаки. Я знал, в чем была причина его резкой угрюмости: отец Отто, вернувшись после войны, запил по-черному и вскоре умер. Сгорел от спирта, как говорила моя мать. И вряд ли Отто мог рассчитывать, что это не будет отражено ни в одной из необходимых рекомендаций.
– Можно и к штурмовикам, – заикнулся было долговязый Макс, но Эрих тут же накинулся на него:
– Дурак!
– Но ведь, по сути, и те и другие служат одной партии, и цель у них, выходит, едина, – продолжал протестовать Макс.
– Не равняй! – еще громче рявкнул Эрих.
Макс окинул всех нас взглядом, словно пытался найти поддержку, но все молчали. Он пожал плечами, затем вдруг неожиданно перевел тему:
– Вчера с матерью были на кладбище у бабки, там недалеко могила одного еврея, отца торговца Хаима.
И Макс посмотрел на Эриха, словно пытался загладить свою предыдущую оплошность.
– Еврей зарыт рядом с немцами, непорядок, – согласно кивнул Эрих, тем самым давая понять, что принимает замечание Макса в качестве извинения.
Мы не знали, чем заняться, и не нашли ничего лучше, чем податься на кладбище и посмотреть на могилу, о которой говорил Макс. Там он указал на захоронение с шестиконечной звездой. Впрочем, таких было много, но мы почему-то сосредоточились на несчастном отце Хаима.
Эрих достал заветную книгу в красном переплете и начал зачитывать оттуда обведенные карандашом отрывки, посвященные неполноценности и опасности, которую несли евреи. Постепенно он распалялся, его голос становился громче, брови то сходились, то расходились, изгибаясь дугой, пока наконец не сошлись так, что превратились в одну прямую полосу, почти скрывшую от нас его сверкавшие круглые глаза, направленные на книгу.
– «Нет такой мерзости, к которой не был бы причастен хоть один еврей. Если вскрыть такой нарыв, вы найдете, словно червя в гниющем трупе, ослепленного внезапным светом, жида!» – рычал Эрих.
Я почувствовал, как во мне быстро поднимается волна гнева, требующая выхода. Слова, которые выплескивались из перекошенного рта Эриха, проплывали у меня перед глазами живыми образами. У моих ног была уже не могила отца торговца Хаима, а средоточие всего, что стало причиной унижения и страданий Германии.



