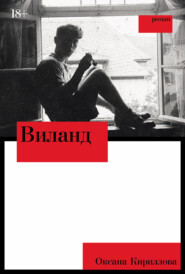
Полная версия:
Виланд
– Грязный отброс! Из-за них всё…
Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я с остервенением пнул каменную плиту. Моему примеру последовали остальные. Не жалея ни ног, ни ботинок, мы принялись бить по плите и земле, обрамлявшей ее, вздыбливая комья, поросшие редкой травой. Отто схватил валявшуюся неподалеку гнутую трубу и со всей силы ударил ею по плите. Отколовшийся кусок камня отскочил ему прямо в лицо и расцарапал щеку, но Отто даже не заметил этого, продолжая со звериным рыком дубасить по плите, будто она была виновата в том, что его отец сгорел от пьянства. Я не знаю, сколько это продолжалось, просто в какой-то момент понял, что окончательно выбился из сил, и, тяжело дыша, прекратил так же внезапно, как и начал. Пятясь назад, я с ненавистью смотрел на плиту. Она, конечно же, не раскололась, но пострадала изрядно, ощерившись царапинами и многочисленными сколами. В этот момент Макс спустил штаны и начал мочиться на нее – пыльный сухой гранит тут же потемнел от горячей струи. Остальные начали молча расстегивать штаны. Напоследок каждый посчитал своим долгом плюнуть на могилу.
Кто-то видел нас на кладбище, и на следующий день о нашем поступке гудела вся школа.
– Я тебя выпорю, если не прекратишь, – гремел отец.
Прикрывая лицо платком, плакала мать. Я молчал. Очевидно, они думали, я не знаю, что им ответить и как оправдаться, но я попросту считал ниже своего достоинства что-либо объяснять им.
– Так больше продолжаться не может, – покачал головой отец, – я поговорю с директором Штайнхоффом, с вами нужно что-то делать.
Повернувшись к матери, он сокрушенно проговорил:
– Эта новомодная зараза распространяется с опасной скоростью. Они подражают друг другу, как обезьяны, совершенно не вдумываясь в суть этого… этого… этих идей!
Через неделю в школе было сделано объявление о запрещении национал-социалистической литературы. Болваны! Меня разбирал смех. Приток желающих примкнуть к организации после этого запрещения вырос в несколько раз. Директор Штайнхофф и мой отец оказали нам неоценимую услугу: те, кто в нашем захолустье еще раздумывал о молодежном движении партии, сделали свой выбор после объявления Штайнхоффа. Запрещение оказалось лучше любой агитации.
Вскоре пришли новости о волнениях в Киле, Ганновере и Мюнхене, которые спровоцировали члены гитлерюгенда, и я захлебывался от зависти. Сидение над книгами и трата драгоценного времени на зубрежку уроков, в то время как решалась судьба моего народа, казались преступлением. Мне хотелось быть там, с ними, в центре событий, вершить историю, рисковать жизнью, а не раздавать газеты и мочиться на могилы старых евреев, но пока я не мог присоединиться к ним. Как бы я ни презирал родителей, я подозревал, что пока без них пропаду. И, видя, что не все вокруг еще осознали, за кем правда и будущее, я готов был выть от бессилия, равно как и был готов доказывать истину ежедневно чем угодно, доводами ли, кулаками ли.
Однажды мы с Максом и Отто, как обычно, слонялись по окраине города. Заняться было нечем. Эриха с нами не было, и красоваться было не перед кем, но тема наших разговоров оставалась неизменна.
– Слышал, говорят, в Нюрнберге выкрадывают и убивают христианских младенцев. Евреи, знамо дело, – начал Макс.
– Для чего? – лениво спросил я, развалившись прямо на траве.
– Добавляют их кровь в свой ритуальный хлеб. Маца, кажется, ее готовят в Песах, праздник у них большой.
Я представил себе кусок хлеба, красный и влажный от младенческой крови, и меня передернуло от гадливости.
– Думаю, даже для них это перебор…
– Ага, перебор, – язвительно протянул Макс. – А куда накануне их Песаха исчезают сотни младенцев по всей Германии?
Я не знал, куда они деваются. Собственно, как до этого и не знал, что они вообще исчезали. В этот момент послышалось легкое повизгивание из кустов. Я присмотрелся, но ничего не разглядел, тогда встал, подошел ближе и раздвинул ветки. Под ними в тени лежала сука со щенками. Она затравленно посмотрела на меня своими гноящимися глазами, но с места не двинулась: два щенка сосали молоко. Я знал, что это за собака, уж слишком примечательный окрас – белая с черными широкими кругами вокруг глаз, как у восточного медведя. Я видел ее в бакалейной лавке Леви, она постоянно там терлась. Очевидно, убежала, чтобы ощениться в одиночестве.
– Это шавка торговца Леви, – подтвердил мою догадку Отто, – убежала, наверное.
– Даже собаки не хотят жить с евреями, – хохотнул Макс.
Ему самому его шутка показалась остроумной.
Сигналом послужила фраза Отто:
– Уж Эрих бы не дал еврейской собачонке плодиться.
Я не имел ничего против собаки и ее щенков, но мысль о том, что могу сделать что-то, что понравится Эриху и даже впечатлит его, обожгла разум горячей волной.
Приподняв ветку, я нагнулся и потянулся к щенкам. Сука ощерилась и зарычала. Я испуганно отдернул руку. Тогда Макс схватил валявшуюся неподалеку палку и ткнул ей в морду. Собака отчаянно залаяла, но снова не двинулась с места. Нависнув над щенками, она огрызалась на каждый тычок палки. Тогда Макс замахнулся и ударил изо всей силы. Псина протяжно заскулила, но тут же вновь разразилась яростным лаем. Макс ударил еще раз, и ему все-таки удалось отогнать ее от щенков.
– Хватайте их! – крикнул он.
Мы с Отто подхватили по щенку и кинулись прочь. Пятнистая собака продолжала бежать за нами, не переставая лаять. Макс на ходу пытался достать до ее хребта палкой, но животное не обращало внимания на эту угрозу. Ее блестящие глаза были устремлены на наши с Отто руки, в которых были зажаты теплые полуслепые комочки. В какой-то момент Максу все же удалось еще раз огреть ее палкой по самому темени, у собаки потекла кровь, она тягуче и прерывисто заскулила и отстала. Крупные красные капли падали на пыльную дорогу, оставляя петляющую линию за ней, но она не останавливалась и семенила за нами, продолжая жалобно скулить.
Пробежав еще несколько улиц, мы нырнули в чей-то пустовавший сарай. Макс прикрыл за нами скрипучие двери. Мы с Отто, не сговариваясь, положили щенков на пол и растерянно посмотрели друг на друга. Никто из нас не решался сделать то, что подразумевалось.
– Да что уставились?! Кончайте их!
И Макс, распаленный борьбой с собакой, с хрипом опустил палку на тщедушную черепушку одного из щенков. Я не успел закрыть глаза и увидел, как она безобразно деформировалась, кровь брызнула во все стороны, и, кажется, вылетел крохотный разбитый глаз. Я сглотнул. Комок подступал к горлу. Было ясно, что щенок мертв, но Макс ударил еще раз. Потом переключился на другого. Теперь я уже не закрывал глаза не потому, что не успел, а потому, что не мог. Больным, измученным взглядом я следил за окровавленной палкой, опускавшейся на маленький коричневый комок, который сминался и принимал невообразимые формы под ударами. Господи, прекрати это! Господи, если ты есть…
Вскоре на полу было шерстяное кровавое месиво.
Я услышал странные звуки за спиной. Обернувшись, я увидел согнувшегося пополам Отто. Его обильно тошнило прямо под ноги.
Ночью я не спал. Как только я закрывал глаза, я видел перед собой ощерившуюся суку с черными пятнами на морде. Я все еще чувствовал в руках мягкое, теплое, дышащее… Что на меня нашло? Зачем я это сделал? Черт подери, как же это было омерзительно. И самое ужасное, никто же не заставлял. Эрих бы никогда и не узнал, если бы мы прошли мимо той собаки.
Я проворочался до утра, раз за разом представляя, как разворачиваюсь и иду прочь от куста, оставив отдыхать в его тени собаку и ее щенков. Я до мельчайших подробностей представлял картину своего отступления, с тоскливой безысходностью осознавая, что мне никогда не удастся ее реализовать, так как иное уже было сделано. Завтракать я не стал, несмотря на недовольство матери. Боялся, если запихну в себя хоть кусок, то меня тут же вывернет наизнанку.
Мы с Отто строго-настрого пригрозили Максу: если он хоть кому-то проболтается о произошедшем, то мы лично его прикончим. Макс обиделся.
– Как будто я один там был, – недовольно проворчал он.
Этот случай мы больше не обсуждали. Я хотел забыть его как можно скорее, благо события в школе постепенно вытеснили его из головы. Мы стали прижимать и устрашать еврейских учеников, чтобы показать им их место. Начали с евреев из младших классов, к старшим пока не лезли.
– Это более восприимчивая аудитория, – заявил Отто.
Мы с Максом согласились.
Если утром, на первом перерыве, мы ограничивались лишь подзатыльниками, то после уроков, когда многие учителя уже расходились и еврейские морды не имели возможности пожаловаться, мы устраивали настоящие стычки. Втроем мы зажимали в углу очередного носатика и драли ему уши, пока он не начинал ныть от боли. Напоследок мы вытаскивали из его сумки тетрадь, вырывали лист и наспех писали «билет в Палестину в один конец», а затем запихивали за шиворот ноющему школьнику. Об этих билетах нам рассказал Эрих. «В Мюнхене уже каждая еврейская собака обилечена», – смеялся он. Прежде чем отпустить очередного еврея, мы строго приказывали ему молчать, если он не хотел повторения «обилечивания» на следующий день.
Все шло гладко, пока Макс не увлекся и не оставил приметный синяк на скуле младшего сына аптекаря Гурвица. Под нажимом отца тот поведал, кто его так отделал. Нас вызвали к директору, а после жесткого выговора передали родителям. Я понимал, что очередной лекции не миновать, и уже был готов к родительским нравоучениям и, возможно, даже к розге от отца. Но вместо этого мать просто тихо сообщила, что я отправляюсь на месяц к тете Ильзе, ее старшей сестре. Отец и вовсе ничего не сказал, лишь посмотрел на меня так, как обычно смотрел на него я, – с презрением.
Очевидно, вырвав из привычного окружения, родители хотели отвадить меня от моих устремлений. Я, конечно же, был против и сопротивлялся всеми силами, но все-таки был усажен в поезд и отправлен во Франкфурт, а оттуда в Бад-Хомбург.
Когда-то Бад-Хомбург был излюбленным местом отдыха русской аристократии, приемы и вечеринки не стихали здесь на протяжении всего лета и в рождественские праздники. Об этом мне рассказала тетка Ильза, старая вдова, проживавшая одна в огромном доме на Линденштрассе. Однако после войны город утратил былой лоск, и сейчас здесь было тихо и спокойно.
В полном одиночестве я бродил по лесным склонам горы Таунус, считая не только дни, но и часы до своего возвращения из ссылки. Желая скоротать время, иногда заходил в курпарк[31]. В его глубине находилось сооружение, напоминавшее старый неухоженный дворец. Оказалось, это была водолечебница. Когда-то она была открыта только для августейших особ, теперь же и я мог выпить там минеральной воды и искупаться в термальном источнике. На противоположной стороне парка стояла русская капелла, которую построил какой-то знаменитый архитектор по фамилии Бенуа. Тетка Ильза рассказала, что в ее закладке лично принимал участие российский император Николай II.
Я запомнил все эти детали, потому что они были связаны с главным событием моей жизни.
Неподалеку от этой капеллы я впервые и увидел ее.
Она стояла ко мне спиной, прячась от жаркого солнца под белым воздушным зонтиком. Я поразился хрупкости ее фигуры. У нее была настолько тонкая талия, что создавалось впечатление, будто ее можно переломить одной рукой. И почему только мне пришла эта дурацкая мысль в тот момент?
Неожиданно подул ветер, взметнувший ее светлые волосы. Порыв усилился и вырвал зонтик из ее рук. Солнечные лучи тут же полоснули по прелестной головке, опалив кудри, ярко зазолотившиеся до слепоты, которая постигла бы всякого, вздумавшего пристально и бесстыдно смотреть на них. Вскрикнув, она обернулась и попыталась поймать зонт за изогнутую ручку, но не тут-то было. Ветер, поднявший пыль, понес его прямиком ко мне. Я продолжал наблюдать. С тягучим треском заволновались кроны деревьев, полетели ослабевшие листья. Я прикрыл лицо ладонью, спасая глаза от пыли, но сквозь пальцы по-прежнему видел ее. Она бежала за зонтиком, придерживая одной рукой падающие на лицо волосы, а другой – подол платья, так и норовивший взметнуться ввысь. Зонтик уже был у моих ног, я наклонился и быстро подхватил его. Небо внезапно и стремительно заволокло и где-то вдалеке загрохотало. Девушка испуганно замерла и на секунду зажмурила глаза. Я молча стоял, не отводя от нее взгляда. Заметив это, она смущенно уставилась себе под ноги. И тут упала первая тяжелая капля, вторая, и вот уже ливень громко забарабанил по иссушенным дорожкам. Дурман истосковавшегося по дождю парка постепенно начал окутывать все вокруг. Она первая вышла из оцепенения и кинулась под раскидистое дерево, я за ней. Не говоря ни слова, я поднял над ней ее зонтик, правда, от дождя он плохо спасал. Я хотел скинуть свою куртку, чтобы накинуть ей на плечи, но никак не мог набраться смелости сделать это.
– С утра па́рило, так и знал, что будет дождь, – наконец проговорил я.
Она чуть повернула голову и растерянно посмотрела на меня. Ко лбу ее прилипла прядь, потемневшая от воды. Мне захотелось убрать ее, но я вовремя одернул себя.
– Да, – только и произнесла она.
Это был божественный голос. Самый нежный и прекрасный, который я когда-либо слышал. Я готов был так стоять вечно и держать над ней зонтик, глядя, как вздымается крохотная грудка под промокшей тканью кружевного платья. Завитки ее белокурых волос, еще минуту назад непослушно разлетавшиеся по сторонам, теперь облепили ее плечи и спину. Я чуть заметно подался вперед, чтобы вдохнуть запах ее мокрых волос, и в этот момент из-за деревьев показалась какая-то толстуха с плащом в руках. Несмотря на свои телеса, она довольно прытко мчалась в нашу сторону.
– Это моя гувернантка! – радостно воскликнула девушка и выпорхнула из-под защиты густой лиственной кроны.
Я же так и остался стоять под деревом с бесполезным дамским зонтиком в руке.
Вечером за ужином я показал тетке этот зонтик.
– Сегодня в парке его забыла девочка, такая худенькая, с золотистыми вьющимися волосами, – как бы невзначай произнес я.
– О, должно быть, дочка Вернеров, Бекки, замечательная девочка.
– Бекки Вернер, – зачем-то негромко повторил я.
– Да, – кивнула тетка, сделав глоток чая, – весьма достойная семья, каждое лето приезжают сюда. В этом году они припозднились. Нужно будет нанести визит, я, знаешь ли, приятельствую с Ингрид Вернер, матушкой Бекки.
Я ничего не ответил. На следующий день я выяснил у нашего молочника, где проживали Вернеры, и, взяв зонтик, направился туда.
Не столь важно, о чем я думал, сколь то, какие эмоции обуревали меня. Это было что-то новое, странное и, надо признаться, не очень приятное, так как сердце колотилось где-то в районе горла, мешая нормально дышать, ладони потели, а живот сводило, заставляя малодушно подумывать о визите в уборную, а не к Вернерам. По пути я встретил одну из тетушкиных знакомых и поздоровался с ней. Я не узнал собственного голоса, он звучал хрипло и испуганно. Я прочистил горло и двинулся дальше. Когда я наконец нашел нужный дом, был уже полдень. Встав в тени лип, я внимательно смотрел на окна, тревожно теребя в руках зонтик. Кто-то мелькнул в окне на втором этаже, может, она?
Я простоял почти час, но так и не решился позвонить в дверь. Проклиная собственную глупость и трусость, я побрел домой.
На следующий день я поклялся себе, что позвоню в дверь, чего бы мне это ни стоило, но, откровенно говоря, не уверен, что выполнил бы эту клятву, если бы не случай. На мое счастье, когда я уже мялся возле двери, она открылась и на пороге показалась та толстая гувернантка, прибежавшая в парк с плащом. Очевидно, она собиралась куда-то идти, но замерла и удивленно посмотрела на меня. Я чуть поклонился и, словно в свое оправдание, показал ей зонтик.
– Та девочка, которую вы увели, забыла.
Толстуха улыбнулась и потянулась за зонтиком.
– Благодарю, я передам.
Но я не выпускал зонтик из рук.
– Я бы хотел сам, – настойчиво произнес я, пытаясь заглянуть ей за плечо.
– С кем ты там разговариваешь, Магда? – раздался женский голос из глубины дома.
На крыльцо вышла женщина в элегантном темно-синем домашнем платье и с любопытством посмотрела на меня. У нее были такие же красивые светлые волосы, как и у Бекки, только уложены двумя косами вокруг головы. Я сообразил, что это, скорее всего, ее мать.
– Добрый день, фрау Вернер, – как можно почтительнее произнес я.
– Откуда вы меня знаете? – полюбопытствовала она, продолжая разглядывать меня.
– Я племянник Ильзы Клозе, – отрекомендовался я и тут же добавил, что принес забытый ее дочерью зонт.
Ингрид Вернер просияла.
– Как любезно с вашей стороны. Проходите, молодой человек.
Они посторонились, пропуская меня в дом. Я зашел и остановился посреди гостиной.
– Бекки, будь так добра, спустись! – крикнула фрау Вернер.
Она спускалась по ступенькам вприпрыжку, перепрыгивая через одну. Я понял, что ей было не больше тринадцати. Увидев меня, она на мгновение замерла, лицо ее вмиг стало серьезным, и остаток лестницы она преодолела уже спокойно, ступая на каждую ступеньку.
– Бекки, это Виланд фон Тилл, он принес твой зонтик, – проговорила ее мать.
Бекки подошла и без слов забрала у меня зонт. Затем, отойдя к матери, приподняла смущенное лицо и тихо произнесла:
– Благодарю вас.
Я не знал, что мне делать и что говорить. К счастью, на выручку вновь пришла фрау Вернер.
– Ждем вас сегодня с тетушкой на чай.
Обратно я мчался опрометью. Я не мог дождаться вечера, чтобы вернуться в дом Вернеров в красивой выходной одежде и показать себя в лучшем свете. Тетка же не могла понять моего возбуждения и списала все на благотворное влияние минеральных вод Бад-Хомбурга.
– Вот ведь, приехал замученный и молчаливый, а теперь полон энергии. И почему Герти раньше не отправляла тебя ко мне?
Я не стал ее разубеждать. Во́ды так во́ды.
За ужином тетя Ильза и Ингрид Вернер оживленно болтали, никто им не мешал: муж фрау Вернер был в каком-то мужском клубе, собиравшемся по вечерам в парковом казино, а мы с Бекки, воспользовавшись тем, что на нас не обращали внимания, выскользнули из-за стола и ушли в гостиную.
– Еще раз благодарю за зонтик, – произнесла она, когда мы оказались одни.
– Не стоит, – поспешно ответил я.
Я вновь поразился, сколь хрупкой и лучезарной она была, словно светилась изнутри. И я пошел на этот свет. Бессознательно я взял ее за руку, ожидая, что она сейчас же отнимет ее и отстранится, но она не сделала этого, напротив, повернулась и смело глянула мне в лицо. На нем не было никакой напускной стыдливости, лишь любопытство и интерес.
– Сколько тебе лет, Виланд? – спросила она.
– Шестнадцать, а тебе тринадцать?
– Вот еще, – она резко вскинула голову, – уже четырнадцать!
– Давай завтра погуляем в парке, – предложил я.
– Давай, – согласилась она, – я буду с Магдой.
Очевидно, на моем лице слишком явно отразилось разочарование от перспективы провести время в компании гувернантки, и Бекки поспешила добавить:
– Не волнуйся, когда мы с ней заходим в купальни, она встречает приятельниц и совершенно забывает обо мне, тогда я выхожу и брожу по парку совершенно одна.
В эту ночь я долго не мог сомкнуть глаз, все представлял себе завтрашнюю прогулку с Бекки: о чем мы будем говорить, как себя вести, куда пойдем. Лишь через несколько часов сладких предвкушений я все-таки погрузился в беспокойный сон.
На следующий день я спрятался недалеко от входа в водолечебницу. Я видел, как туда прошествовали Магда и Бекки, а минут через десять девушка вышла уже одна. Она огляделась, и я помахал ей рукой.
Мы долго гуляли по тенистым аллеям. И я уже не боялся брать ее за руку, чувствовал, что она не против. Тогда я мог лишь догадываться, что ей было так же приятно, как и мне, ощущать эти прикосновения. Меня пробирала дрожь, когда я держал в своей большой ладони ее узкую кисть. Я попеременно то сжимал ее, то перебирал тонкие пальцы. Она не боялась, не жеманничала, была открытой и естественной, как и положено чистому и безгрешному ребенку четырнадцати лет.
Наши прогулки вошли в привычку. Мы гуляли по парку каждый день и с каждым разом становились все ближе и ближе друг другу. Конечно, мы не перешли определенной черты, потому что попросту не ведали, как ее переходить, но всем нутром ощущали – далее нам друг без друга никак.
Иногда я расстилал в укромном уголке парка на траве свою куртку, и мы сидели, прижавшись друг к другу. Я перебирал ее золотистые кудри, смотрел на ее закрытые глаза, легкую полуулыбку и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Рядом со мной была моя Бекки, моя девочка, мое сокровище.
Однажды мы шли по дорожке, и из кустов выскочил чей-то спаниель. Собака кинулась к нам, виляя хвостом и заливисто лая, и Бекки тут же спряталась мне за спину. Она прижалась ко мне так близко, что я чувствовал ее дрожь. Она испуганно смотрела на собаку.
– Пошла прочь! – Я быстро нагнулся и схватил камень.
Спаниель остановился и растерянно глянул на мою руку, затем перевел взгляд на мое лицо, зашевелил было снова хвостом, но я угрожающе вскинул руку, в которой был зажат камень. Собака развернулась и умчалась в кусты. Я бросил камень и обернулся к перепуганной Бекки.
– Боишься собак? Глупышка, она же небольшая.
Бекки кивнула, но продолжала испуганно смотреть на кусты. Я обнял ее. Неожиданно она подняла голову и внимательно посмотрела на меня.
– Поцелуй меня, Виланд, – проговорила она.
Я растерялся.
– Ну же, поцелуй меня. – Ее нежный голос зазвучал требовательно.
Глубоко внутри такие мысли уже шевелились во мне, но то были скорее несбыточные мечты, которые потому и были прекрасными, что являлись нереальными. А сейчас она сама просила об этом.
Забыв дышать, я осторожно наклонился и прикоснулся к ее губам. Они были мягкие и теплые, от них пахло имбирным печеньем, которое она, очевидно, ела за завтраком. У меня закружилась голова. Я хотел отстраниться, но Бекки вдруг открыла рот, и я почувствовал, как она скользнула кончиком языка по моим губам. Мне показалось, что земля у кромки обрыва, над которым я балансировал, вдруг провалилась и я полетел в пропасть. Это был мой первый в жизни поцелуй.
Я ошеломленно прижал Бекки к себе.
Это было неимоверно прекрасно, но я все испортил. Я почувствовал предательские ощущения внизу живота, которые беспокоили иногда по утрам. Только не это!
Судя по всему, Бекки тоже это почувствовала. Глаза ее расширились, она испуганно отстранилась и посмотрела вниз.
Я чувствовал себя осквернителем.
– Что это? – спросила она.
– Ничего, – ответил я грубее, чем хотел, и отвернулся от нее, красный как рак.
Неожиданно она рассмеялась и попыталась повернуть меня обратно.
– Ну же, Виланд, ты ничего не должен от меня скрывать, ведь мы же поклялись. Глупо что-либо скрывать от своей будущей жены.
То была чистейшая правда, мы поклялись друг другу в вечной верности и любви, дело оставалось за малым – во всем признаться родителям и дождаться возраста, позволяющего вступить в брак.
Я нехотя повернулся, стараясь прикрыть свой срам руками, и произнес:
– Это некоторые особенности мужской природы. Я не могу это контролировать.
Она внимательно смотрела на меня, в ее взгляде уже не было испуга.
– Я знаю, когда это происходит, – уверенно проговорила она, – когда мужчина хочет женщину.
– Господи, Бекки, где ты услышала такие слова?! – возмутился я.
– Я подслушала разговор Магды с ее кузиной Гретой, когда та выходила замуж. Накануне свадьбы Магда учила Грету, что ее ждет в первую брачную ночь, а я спряталась за балдахином и все слышала, – ничуть не смущаясь, призналась Бекки.
Подумать только, моя маленькая Бекки оказалась в этой теме более подкованной, чем я. Нельзя сказать, чтобы я вообще ничего в этом не смыслил. Когда отец только вернулся с войны, в первые месяцы они с матерью потеряли всякую бдительность и не всегда закрывали дверь в свою спальню. Однажды ночью я проснулся от грозы и по обыкновению испуганно кинулся к матери, но возле их двери остановился как вкопанный. На кровати я увидел нечто, заставившее меня позабыть о грозе. Намертво сплетясь друг с другом, словно змеи, они странно двигались, заставляя скрипеть старую кровать. Скрип этот время от времени заглушался раскатами грома, и тогда их потные тела освещались отблесками молнии. Во время одной из вспышек я увидел закатившиеся глаза матери и ее искривленный страшной улыбкой рот. Тогда она показалась мне самым омерзительным существом на всей земле. Не замечая меня, они продолжали двигаться. Ниже пояса они практически слились – мне казалось, что отец тонул в матери. В тот момент самым большим моим желанием было, чтобы они поскорее разлепились, но отец, словно назло мне, еще сильнее загонял в нее свой отросток, будто хотел, чтобы она вобрала в себя всего его. Я вернулся в свою комнату и, пораженный увиденным, долго плакал, уткнувшись в подушку.



