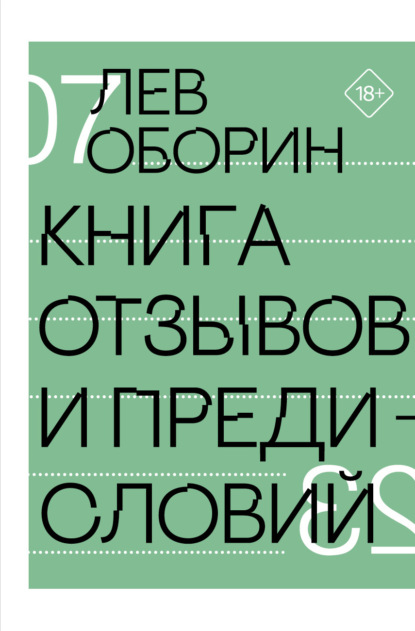
Полная версия:
Книга отзывов и предисловий
Денис Ларионов. Тебя никогда не зацепит это движение. Харьков: kntxt, 2018
ВоздухО второй книге Дениса Ларионова можно сказать, что она продолжает первую («Смерть студента»), но логика этого продолжения – такая, что уяснить ее можно только постфактум. Иными словами, она не слишком прогнозируема. В новых стихах Ларионов движется в сторону большей фрагментарности опыта, размышляет о сверхтравматичности микрособытий: «Холодная до спазма в горле война. / Ее пропаганда – беспрецедентная огласовка имени / в ожидании кофе». Привычный социальный, политический, конфликтный язык применяется к бытовым событиям и по-новому их расцвечивает – отыскивает, подобно металлоискателю, в них зерна конфликтности, потенциал тотального дискомфорта. В ходе этой фиксации рождаются пассажи обескураживающей точности («Обида подгнившей крысой / ползет по горлу»), но «проклятый» романтизм этих пассажей нивелируется благодаря тому, что говорящий находится «над схваткой» слов: «Анестезирован. Сбросил вес слов, / запомнив практически все».
Понятно, что в каком-то смысле это игра в беспроигрышную позицию; понятно, что эта игра – проблематизация уязвимости или даже многочисленных уязвимостей. Собственно, вся книга – смелое, с открытым забралом, признание этого факта. Больше того, среди уязвимостей и та, что грозит самой маске индифферентности: круг замыкается. Многочисленные сообщения об актах насилия, убийствах, «ссадинах, кровоподтеках» в какой-то момент перестают «цеплять», но движение, которое «никогда не зацепит», могло бы быть и движением сострадания. Таким образом, насилие достигает цели, беря массой, задавливая человеческую эмпатию. «Опознание невозможно – субъект рассмотрения / плюнул на объектив». То есть – предпочел радикально исказить собственную оптику, но и увидел в этом проблему.
Отметить наличие фабулы, третируя камнем остаткистекла.Еще больше боли в скобках для всех, освобождающих горлоотритма,позвоночник от грифеля.Хельга Ольшванг. Свертки / Пер. на англ. Даны Голиной. М.: Культурная революция, 2018
ВоздухЗамечательно задуманная и изящно сделанная книга: стихи, отсылающие к японской культуре, проиллюстрированы гравюрами Хокусая и других японских художников, но действительно «свернуты» внутри книги: напечатаны так, что увидеть их можно, лишь разрезав страницы. Но тогда гравюра будет разрезана посередине: отсылка к архаической практике обращения с книгой одновременно сообщает, что наше восприятие старого искусства чревато искажениями, в том числе фатальными.
Что касается самих стихов, а они тут, конечно, главное, то это очень новая Хельга Ольшванг – лаконичная, стремящаяся не к экстенсивному выражению смысла, но к суггестии. В этом смысле название «Свертки» можно связать еще и с идеей дополнительных «свернутых» физических измерений. В то же время множество знакомых черт ее поэтики сохранены в этой книге: тяга к музыке, к звукоподражанию («поступим так поступим так – убеждает поезд метро»), умение создать взрыв любовного аффекта («Ничего нет прекраснее / этого платья, сними его сию секунду»). Лаконичность большинства текстов заставляет вспомнить о японских поэтических формах, структура книги открыто ссылается на спектакль театра кабуки. К этому нужно добавить многие образы, заставляющие вспомнить о таких с трудом переводимых и тонких понятиях японской культуры, как «мудзе» (условная «эфемерность») и контрастирующее с уже упомянутым аффектом «саби» (приглушенность, слабость): «Чай заварю, чтобы не пропустить / ночь, ее цвет», «Как же светло! / Выше, следи за моей рукой, / кто там летит – не пойму». Это не значит, что перед нами стилизация: японское здесь служит источником вдохновения, средой, которая поддерживает способность видеть прекрасное в обыденном (еще одно, причем важнейшее, понятие японской эстетики – югэн, скрытая красота) и эстетизировать то, что у другого вызвало бы раздражение: звучание телевизионных новостей или «Скверно / по квадратам уложен дождь, / словно сено, / кидали его, как могли, торопились поспеть до утра». Обратим внимание, что эстетизации здесь сопутствует рационализация: создавая необычный образ, Ольшванг выступает толкователем и адвокатом той реальности, которая за ним прячется.
Радостно повстречатьоблезлые эвкалипты, магнолии в красных почках.Негнущиеся, стоят они по сторонам,по пояс в траве.Еще одна ночь прошлани в одном глазу,и все на свету кажется ненастоящим.Скажи, отмылось ли то пятно?Скажи, как ты, твои дни?Анна Глазова. Лицевое счисление. М.: Центр Вознесенского; Центрифуга, 2020
ДискурсОчевидное слово, которое мне приходит в голову при чтении стихов Анны Глазовой, – метафизика: разговор о категориях и свойствах мира, данных нам в его физике – очертаниях и движениях. Разговор этот компактен – заметки в большой книге, страницы которой Анна Глазова не спеша заполняет, – и плотен. Обращение к сущности предмета, как правило, некоего предмета природы, но иногда и своего собственного слова, слова-ребенка («их прикрыть бы»), отсекает хождение вокруг да около, нагнетает смысл. Кроме того, оно очерчивает, всякий раз заново, свои границы – границы метода.
Например, мысль о «разоблачении облака», в свою очередь, позволяет разоблачить себя – ведь продолжение мысли показывает, что в облаке на самом деле скрывалось много капель, хранилищ и ретрансляторов глубины. Облако разоблачается, капли падают, мысль движется («в месте соприкосновения / разрастается мысль»), стихотворение очерчивается: удивительно, как много в этих стихах движения при их кажущейся статуарности – впечатление которой обычно создают назывные предложения. Эти предложения обозначают ситуацию – но она отказывается фиксироваться.
Плотность мысли, которую мы ощущаем, в конце концов пролетает сквозь нас, истекает. «как писать нетяжелые книги?» – спрашивает Анна Глазова в последнем стихотворении «Лицевого счисления», будто полемизируя с фетовской надписью на томике Тютчева: «Вот эта книжка небольшая / Томов премногих тяжелей». Она пишет: «без тяжести / нет легкости». Тяжесть и легкость сосуществуют в этих стихах диалектически – диалогом внутри монолога.
Артем Верле. Краны над акрополем. М.: всегоничего, 2020
ГорькийЭта маленькая книжка псковского поэта вышла в издательском проекте «всегоничего», который курирует Андрей Черкасов: здесь уже появились книги Ивана Ахметьева, Сергея Васильева, Михаила Бараша, Марии Ботевой, Марины Хаген и отличный новый сборник Андрея Сен-Сенькова (который, к сожалению, не поступит в продажу). Верле в принципе свойственно экономичное письмо, но в «Кранах над акрополем» этот принцип кристаллизуется. Возникает соблазн прочесть первый текст сборника как манифест:
скомкать ворох птици выбросить птицв кустычистая работаИменно скомкать, то есть сжать в один ком: несмотря на то, что тексты Верле выглядят разреженно, занимают небольшую площадь даже на маленьких квадратных страницах этой книги, сжатие в них почти физически ощутимо. Все 50 стихотворений в этом сборнике – ассамбляжи из четырех строк. Такое ограничение помещает тексты «Кранов над акрополем» между афористичностью и фрагментарностью, и Верле умело пользуется этим пространством: «когда и облака и облака / станут мрамором // будет и облако // напоминающее по форме обломок». Установка на фрагмент родственна установке на редимейд, found poetry: в искомую форму четверостишия укладывается, например, поэтичная цитата из травелогов Александра фон Гумбольдта или Владимира Арсеньева, а то и отрывок из «Чжуан-цзы». Клочок из Пушкина – «вся комната янтарным блеском» – продолжается клочком из рекламы: «и рассрочка от застройщика». В этих склейках афористичность движется как бы обходными путями, отыскивая точки восприятия, – и тут кстати вспоминается акупунктура; некоторые четверостишия Верле и впрямь напоминают тексты поэта и врача-иглоукалывателя Андрея Сен-Сенькова, только до предела уплотненные:
маленькая больчтение под дождемпрозрачныеопухоли буквНеудивительно, что одни смыслы тут наскакивают на другие: из описания игрушечного хаоса («вечерний кукол дом») выглядывает эротическое «куколдом», в строке «корона сломана слоном» буквальный смысл затеняется шахматным. В целом форма верлибрического четверостишия оказывается на удивление многообразной – в том числе и интонационно. Верле работает то с меланхолическим пейзажем, напоминающим о японских малых формах, то с «инфинитивной поэтикой», которая позволяет построить планы на смерть и посмертие: «умереть в удаленной деревне // откуда в мешке / повезут на уазике // хоронить по-людски». Благодаря этим экспериментам, проводимым на небольшой площадке, интонация вдруг обретает собственное пространство – вернее, пространственность, протяженность. Очень интересно.
Кира Фрегер. Куда Льюин Дэвис несет кота. Екб.; М.: Кабинетный ученый, 2020
ГорькийВторая книга владивостокской/московской поэтессы и фотографа Киры Фрегер – собрание небольших, камерных, порой минималистических текстов. Исподволь, незаметно, оперируя цитатами-маркерами, они подбираются к острой проблематике, в том числе политической: «будет все так же особенно грустен твой взгляд // и 22 апреля когда ноликлашек начнут принимать в обнулята // а после торжественной клятвы / кормить их в макдаках / а после макдаков / свозить их далеко-далеко на озеро чад, // и 22 июля когда на мои шестьдесят / нас освободят и отправят назад под конвоем / миллионов выросших обнулят». «Мы» в этом стихотворении – сугубо частные люди. Обращения к адресату у Киры Фрегер нередко пронизаны тревогой, страхом перед угрозой: «опасайся зеркальных прохожих / они смотрят в обратном порядке». Герои этих стихов приучаются бояться своих желаний – а мир охотно предоставляет поводы для боязни, о чем здесь иногда говорится слишком прямолинейно:
думаешь: времени б —и в ответвремя остановилосьдумаешь: снега бы —вот и снегв каждой снежинке – вирусВпрочем, чем ближе Фрегер к любовной лирике, тем очевиднее страх и тревога вытесняются наружу. Середина книги состоит из текстов почти идиллических. Кинообразы в этих стихах – отсылки к Тарантино и братьям Коэн, как, собственно, в заглавном стихотворении про Льюина Дэвиса – намекают на совместный просмотр, получение общего опыта, а с другой стороны, становятся фильтром для идеализации партнера: «как бы под нового Тома Ерка / под фоткой (я бы распечатал) где ты / с кислотною сигареткой / за 50 центов из лучшего в мире фильма – / Клифф Бут на 50 процентов // и на 50 – „неужели он настоящий?”» Звукопись, окказиональное словотворчество, каламбуры («дорогая столицая», «всенадцать лет», «сначала смотрит на оборот фотки, потом наоборот») у Фрегер работают на уплотнение стиха. Иногда они служат подсказкой для разрешения небольших загадок. «О чем здесь речь? А, вот о чем» – становится яснее.
стой и идину а если сбываться начнетвспомни 13:13и прекратиэто о сложной тревогео ложном путиТаких «зон непрозрачного смысла» (воспользуемся термином Дмитрия Кузьмина) в книге не слишком много. В целом это ясное высказывание – с эмоциональными переходами, в которых учтено место для читательского узнавания. Как говорят англичане – «I can relate to this».
Андрей Сен-Сеньков. Чайковский с каплей Млечного пути. М.: всегоничего, 2021
ГорькийНовая книга минималистского проекта «всегоничего» – проиллюстрированный Борисом Кочейшвили цикл стихотворений Андрея Сен-Сенькова, одного из самых изобретательных поэтов последних десятилетий. Поэзия Сен-Сенькова строится на «сближении далековатых понятий» и на точечных сдвигах смысла и лексической сочетаемости. Эти сдвиги наделяют предметы нервической одушевленностью, а людей вписывают в некий круговорот превращений. Значительная часть поэтики Сен-Сенькова зависит от работы с необычными, колюще-поэтическими фактами и фактоидами. С легендами, подпитывающими городское воображение, с материалом для википедического раздела «Знаете ли вы?» или энциклопедии диковинок Atlas Obscura. Манера эта очень увлекательная, даже привязчивая.
В новой книге Сен-Сеньков нарочито механически объединяет биографию Чайковского с фактами о Солнечной системе и межзвездном пространстве. Фобос, «единственный спутник в солнечной системе», который «восходит на западе и восходит на востоке», – это «такой марсианский стеклянный мальчик / ни на кого не похожий» (один из примеров проявления важного для истории Чайковского гомоэротического мотива). А «пояс златовласки», которому Сен-Сеньков сначала дает астрономическое определение («идеальное расстояние планеты от ее звезды / чтобы вода на поверхности / не испарялась и не замерзала»), ассоциируется с балетной/цирковой ролью:
златовласка в черевичкахидет по проволокенатянутой между цирковыми планетамижонглирует маленькими аплодисментамивеснушчатых небожителей с рыжими крыльямиВо всем этом немало «детского» энциклопедизма (и в книге есть интермедия со стилизованными детскими стихами о планетах – «У Сатурна очень много / Ледяных колечек. / Покататься на коньках там / Хочет человечек»). Вместе с тем «Чайковский с каплей Млечного пути» – книга довольно грустная. Ее космическая условность подчеркивает неизбывность, закольцованность общей европейской мифологии, где сосуществуют мелодии Чайковского и Штрауса – и концлагеря, где смерть остается неизбежной:
вокруг юпитера летает спутник европатам стоит ледяная эйфелева башнязамерзает голубой дунайв кратере аушвиц сжигают людейв александро-невской лавре лежит композиторИ чем дальше, тем грустнее и трогательнее: короткие стихотворения становятся еще короче, в финале книги Сен-Сеньков разбирается уже с отдельными протонами и электронами, вспоминает Вифлеемскую звезду и отправляет в космос одинокого космонавта. Разрозненные ноты рождественской, романтической, старомодной музыки – в огромном пустом зале.
Длиннее
Роман Осминкин. Товарищ-вещь. [СПб.]: Свободное марксистское издательство; Альманах «Транслит», 2010
Новый мирСерия «Kraft», напечатанная на оберточной, «технической» бумаге, воплощает отношение к вещам: вещи перестают быть товарами и становятся товарищами, они освобождены и честно исполняют свое назначение. Поэты, напечатанные в этой серии (кроме Осминкина – Антон Очиров, Кети Чухров, Вадим Лунгул), принадлежат кругу альманаха «Транслит», наиболее заметного и отчетливого литературного предприятия современных российских левых. Стихотворения Осминкина, несмотря на принципиальную критичность и порой самоиронию, несут в себе веру в справедливость: отсюда манифестарность, роднящая эту поэзию с футуризмом лефовского извода (вспомним вещи-товарищи в «Мистерии-буфф»).
омоновец в балаклавенапиши письмо мамечто ты не хотел но тебя заставилиударить женщинупримерно ее возрастаона слишком громко кричаласвободу ходорковскомуПочва, на которой произрастают стихи Осминкина, наполнена еще и постмодернистской/постструктуралистской философией. Помимо всего прочего, это сообщает текстам важное свойство: очень часто их интонация предполагает одновременно предельную серьезность и ироничность (последняя выступает как контролирующая функция, некоторая над-положенность, взгляд со стороны Другого). Иногда ирония смешивается с романтической эйфорией, и тогда штампы сразу и осмеиваются, и произносятся искренне (так в компании поются песни из старых мультфильмов):
не буду не будуне буду больше впредьпо барам и по клубамхвостом своим вертетьна фабрику на фабрикуна фабрику пойдуустроюсь там монтажницеймонтажника найдуВ лучших текстах книги эта двойственность делается неразделимым сплавом – как, например, в прозаическом «Путешествии из Петербурга в Москву», конструкция и стилистика которого явственно – и пародически – отсылают к повести Радищева, а сюжетное содержание передает двоякое обобщение: в соотнесении с Радищевым – «ничего не изменилось», в соотнесении с отвлеченным современным контекстом – «смотрите, ужас» (одновременно с этим сентиментальность рефлексии оборачивается и против рефлексирующего героя): «В Едрове герой знакомится с молодой крестьянской девушкой Анютой, разговаривает с ней о ее семье и бывшем женихе, вернувшемся из армии инвалидом. Чтобы помочь ему, она выходит замуж за богатого, который делает с ней что заблагорассудится, а она не смеет перечить, так как иначе не добыть деньги на операцию. Герой удивляется, сколько благородства в образе мыслей селянки. Он осуждает государство, не заботящееся о своих сыновьях, и размышляет о современном браке, вынуждающем восемнадцатилетних девушек становиться собственностью толстосумых бизнесменов. Равенство – вот основа семейной жизни, считает он». Итак, поэзия Осминкина резко социальна, а мышление объемными текстами говорит и об объемности задач. Акцентный стих, к которому часто прибегает Осминкин, вновь напоминает о работе футуристов – и, возможно, служит в том числе идеологической солидаризации. Лексика и интонация отсылают к традициям слэма и рэпа. Тем неожиданнее обнаружить здесь чистую лирику, высказывание, обращенное внутрь говорящего («Дао лыжни»). Третий способ говорения – передача ничем формально не останавливаемой речи, при этом особо выделенная графически. Речь здесь фиксирует трудную автомайевтику, формирование себя.
Книге предпослано программное авторское предисловие, в котором нарочито «грубое» оформление книги и социальный пафос текстов сводятся в одну концепцию.
Лучшее стихотворение здесь – «Саша». Вполне могло бы стать манифестом – жестокость, лицемерие и идиотизм эпохи в нем проговорены точнее, чем это сделал бы любой учебник будущего:
саша удобно устроилсякто его упрекнетнорма прибавочной стоимостиот зависти бороду рветцены на нефть вырастутвырастут цены на нефтьцены на нефть поднимутсяи не опустятся впредь<…>ксюша собчакадмирал колчакксюша собчакадмирал колчакксюша колчакадмирал собчакксюша колчакадмирал собчакЕлена Сунцова. Лето, полное дирижаблей. Нью-Йорк, 2010. Елена Сунцова. После лета. Нью-Йорк, 2011
Новый мирПоэт и издатель Елена Сунцова долгое время жила в Нижнем Тагиле – и принадлежала, разумеется, к «нижнетагильской школе», основанной Евгением Туренко, – а потом переехала в Нью-Йорк, и Нью-Йорк вошел в ее поэзию так же просто, как все остальное («розовеющий рассветный / Квинс полупустой» и прочие Пятые стрит и Третьи авеню). Это стихи очень пластичные, с цветами фонетики из того же семейства, что растут в саду Натальи Горбаневской. Кажется, что есть единица «стихотворение Сунцовой», и в «Дирижаблях» она утверждается с очевидностью. Чаще всего восьмистишие; эпизод, который нужно успеть схватить, мысль, которую нужно успеть записать. Видимо, поэзия мгновенного реагирования: встреченное море тут же переживается еще раз, в стихах, а, скорее всего, хронология – ключ к композиции сборников. Существеннее всего то, что эти мысли и эпизоды складываются в узнаваемый мир, куда вмещено все, что важно.
в лодке пойманной внаеммы плывем плывемв лодке с выбеленным дноммы поем поемв лодке маленькой как доми большой как домс занавешенным окноми моим лицом.Этот пример говорит скорее об аскетизме, но на самом деле поэзия Сунцовой наполнена самыми разными образами – дело в их соподчиненности некоему «над», создающему целостность поэтики. Здесь часто сопоставляется большое и малое, внешнее/открытое и внутреннее/закрытое (очень частые у Сунцовой дирижабль и дом), верх и низ, светлое и темное: выстраивается баланс книги, где стихотворения, по большому счету, – грани одной темы, составляющие гимн неразобщенности. Второй сборник, «После лета», сохраняет общность с первым, хотя здесь – не в последнюю очередь из‐за концептуального названия – больше обращаешь внимания на «холодную» образность: замерзшая вода на железе; заготовленная на зиму костяника; горные ледники; зимнее окно трамвая; Петербург («обрадуемся радуге, / сухой октябрьской молнии, / и выкатится холод / и лопнет, как колечко»). Нельзя сказать, что это холодное течение оказывает решающее влияние на интонацию: она остается прежней, потому что помнит, для чего бралась раньше:
За редеющим заборомты увидишь на просвет,что холмы забыли город:это выпал снег.Зима здесь – оболочка, внутри остается тепло.
За немногими исключениями (например, стихи, посвященные памяти писателей и поэтов – Ремизова, Михаила Кузмина, трагически погибшего Тараса Трофимова), это легкие книги. Прочитать их – за полдня, запомнить, что они есть, – навсегда.
Алексей Верницкий. Додержавинец. М.: АРГО-РИСК, Книжное обозрение, 2011
Новый мирАлексей Верницкий, изобретатель поэтической формы танкетки (стихотворение из двух строк и шести слогов) и основатель сайта «Vernitskii Literature», разделил свою книгу на две части. В первую вошли стихотворения, написанные в период с 2003 по 2007 год, во вторую – стихи 2008–2010 годов. Тексты обеих частей обязаны своим возникновением интересу Верницкого к русской поэзии XVIII века.
В них проявляются два поэтических метода, причем первый претендует на отображение целого мировоззрения. Жалея об утраченном гармоническом видении мира, свойственном русской поэзии XVIII века, Верницкий в предисловии указывает, что гармонию разрушила эстетика романтизма (период его влияния автор, очевидно, простирает до наших дней). «Современная русская поэзия нуждается в движении „додержавинцев“, которое стремилось бы вернуть русскую поэзию к идеализированно переосмысленному периоду примерно до Державина». Речь идет не об архаизации, а об изменении того, что в школе именуется «идейным планом»: «Творческий метод додержавинцев… должен концентрироваться на том, чтобы делать все в точности не так, как поэты-романтики», то есть отрицать ценность человеческой личности, чувств и желаний. Вот пример додержавинской поэзии:
Мой бог – особая защита:Он не диктует Берешит,Он не сойдет с небес Тушита,Моих врагов не сокрушит.Иное мне дает Майтрейя:Он подтверждает, что не зряВдали горит, надежду грея,Нирваны бледная заря.Отсылки к буддизму и индуизму часто встречаются в стихах Верницкого: это соответствует стремлению к отказу от личности и связанной с ней суетности. Отсутствие субъективного означает присутствие объективного («Когда Мысли сами концентрируются на добродетельном, / Им не нужны сержант Вера, прапорщик Надежда и старшина Любовь, / И генерал Душа улетучивается за ненужностью»).
Вторая часть книги состоит из экспериментов по возрождению русской силлабики – довольно парадоксальных, потому что в силлабических стихах Верницкого фразы подвергаются насильственной ритмизации: он превращает в силлабо-тонику то, что ею не является, сдвигая ударения в словах так, чтобы фраза соответствовала ритмической схеме. Перед стихотворением он выставляет указание: «читать как ямб»:
Мир грешит телом и языкомИ полон смертью и ложью.В сосуде над рукомойникомЯ нашел коровку божью.Мир смотрит холодно и злобноИ рвет сам себя на куски.Я спас весь мир, Ною подобно.Букашка сушит крылышки.Ударения в этом тексте должны быть расставлены тссак: «Мир грЕшит тЕлом и язЫком / И пОлон смЕртью и ложьЮ…» – и т. д. В предисловии Верницкий задается вопросом, является ли такой способ стихосложения совершенно новым для русской поэзии, вспоминая только пример из «Silentium!» Тютчева («встают и заходЯт оне»). В латинской поэзии, как мы помним, такой прием был совершенно законным. Вспоминается – из личного опыта – детская игра, в которой прозаический текст, например, правила пользования Московским метрополитеном, надо было петь на мотив какой-нибудь известной песни, например, «Подмосковных вечеров»: «МетропОлитен являЕтся тран / СпОртным срЕдством пОвышеннОй…» Этим способом Верницкий перелагает и библейские псалмы, таким образом отдавая дань очень старой традиции – начатой именно в додержавинские времена. Отметим, что стихотворения второй части в большинстве своем выдерживают и «додержавинские» правила.
При всей манифестируемой серьезности «додержавинской» концепции книга Верницкого очень смешная, в лучшем смысле этого слова. В книжной серии «Воздуха» таких книг не хватало.
Алексей Порвин. Стихотворения. М.: Новое литературное обозрение, 2011
Новый мирВторая книга Алексея Порвина полно представляет его поэзию: в состав «Стихотворений» полностью вошла предыдущая «Темнота бела». В случае Порвина это плюс: мы имеем дело с поэтом, который движется в выбранном направлении и при этом не изменяет главным своим установкам – на принципиальную недекларативность, познание мира через вопрошание о нем. Всякое стихотворение Порвина сопротивляется при первом прочтении и становится все яснее с каждым новым. «Очевидное» здесь означало бы «поверхностное». Такое не может быть очевидным:
О ливень, ты ли лучина,чьи волокна – осенняя голь,двускатной крышей сараярасколотый вдоль?В основе почти всех текстов лежит микросюжет, достаточный для развертывания важнейших метафизических вопросов. Здесь важны почти неуловимые колебания: отсюда уменьшительные формы, которые должны точнее приблизиться к смыслу: «окошечко», «жестик». Исходное событие может быть сколь угодно незначительно для непоэтического взгляда: ветви шумят за окном, пчела пролетает мимо, человек склоняется над рекой, грузовик проехал по улице. Ситуация изменилась и требует пересмотра отношения к себе: поэт задает вопросы и дает миру указания, советы, а то и обращается к нему с просьбами о восстановлении или продлении гармонии. Он чутко вслушивается в мир и одновременно меняет его: в каком-то смысле это квантовая поэзия.

