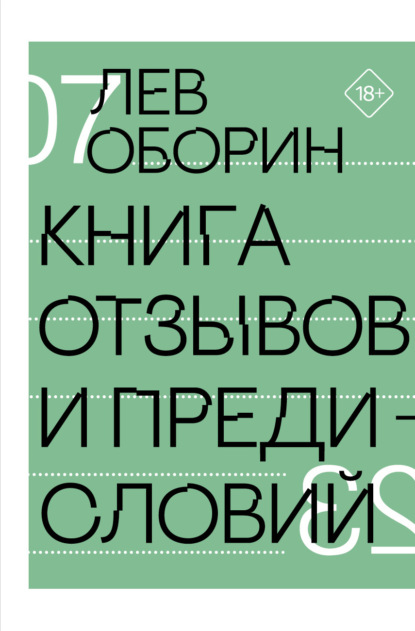
Полная версия:
Книга отзывов и предисловий
С иронией можно и переборщить, как, например, в тексте «Актуальный поэт Агата» (этот текст, повествующий о том, как грудной младенец овладевает всеми тонкостями «актуальной поэзии», мало чем отличается от рассказа Аверченко о жасминовых тирсах, который нынче вызывает только архивное умиление) или стихотворении «Конец смерти», высмеивающем поэтические вечера, посвященные рано ушедшим из жизни поэтам. Но другие вещи Никитина оказываются действительно остроумной пародией на механизмы литературного процесса: таковы, например, обширное «Сообщение о стирал-машинниках» (в которых, разумеется, читаются «мошенники») – поэтах, работающих с «особым языком, присущим инструкциям по ремонту стиральных машин» (этапы легитимации этого направления в литературном сообществе описаны настолько последовательно, что в какой-то момент хочется почитать антологию стирал-машинных стихов), и текст «Войти в литературу», который, при всей своей саркастичности, приглянулся бы Бурдьё. Никитин выполняет работу «санитара леса», которая многим может не нравиться, но на самом деле для здорового литературного процесса необходима (надеюсь, это замечание его не разозлит).
Для самоиронии же Никитин оставляет стихи, и они еще ближе к классическому стендапу, чем проза: это набор трагикомических происшествий, случившихся с героем-недотепой, который то краснеет за своего дядю, пишущего невменяемые письма Дмитрию Кузьмину, то с отчужденным удивлением разглядывает на порносайте фотографии женщины, которой когда-то делал массаж, то приходит к деду на кладбище, чтобы сфотографировать его надгробие и пользоваться этой фотографией как документом:
– А свидетельство о рождении? —спросил дед.– Утеряно.– Паспорт отца?– Он менял паспортпосле второго брака.Я туда не вписан.Поэтому-то я здесь:говорят, что мертвые лицамогут беспрепятственнонаходиться на территории России.Я достал фотоаппарати сделал снимок.Надпись на могиле гласила:«Никитин Евгений Сергеевич. 1936–2008».Мрачный и трогательный юмор, все как надо. Думаю, в стендапе Никитин действительно имел бы успех.
Алексей Королев. Вне. М.: Atelier ventura, 2015
ВоздухКнига избранных стихотворений московского поэта – одного из самых виртуозных авторов, работающих сегодня с регулярным стихом. Стихи Королева больше всего похожи на причудливые разноцветные ленты в руках гимнаста: извивающиеся сплошной строкой, закругляющиеся ассонансами, ломающиеся внутрисловными переносами, они могут завораживать так, что, следя за ними, забываешь об исполнителе. Королев об этом, кажется, знает, почему часто и прибегает к считалкам и скороговоркам:
начинаем три четырея ли мы ли вы ли ты ливывалились из кулисиз курильных комнат измагазинной зарисовкииз подсобки из массовки —в принципе, может быть совершенно неважно, зачем это произносится, перед нами чистое «удовольствие от текста», характерное также для некоторых стихов Аркадия Штыпеля.
Вместе с тем Королев умеет семантизировать игровой прием, поставить его на службу драматургии. Одно из умений Королева я назвал бы «глубокой зарисовкой»: сквозь набросок – бытовой, пейзажный – проступают исторические травмы, до сих пор не нашедшие разрешения:
лифчики известняковые слепкинебо рентгеновский снимокнемо пролитые сливкиглубже базарного ложабрачное ложе счастливойморе старушечья кожамелко порезано рыбойи нарушая порядоквставленные дымятсяострые брови хорватокв италианское мясо.Королев – многопишущий автор (одна из его книг, «НЕТTM», насчитывает почти 500 страниц), в сборнике «Вне» представлена лишь малая часть его текстов, и с отбором Евгения Никитина можно поспорить (но очень хорошо, что включена поэма «Корпус № 5», посвященная памяти Алексея Парщикова). В другом месте я писал о «встревоженном» лирическом субъекте Королева; пожалуй, по этой книге видно, что лирический субъект этот может – или, по крайней мере, мог – пребывать в разных состояниях, а автору подвластна всякая техника. По-моему, это богатство.
полчетвертого и снова на стоваттной полосе упражнения яснова или сирина эссе полевой дневник толстеет от вчерашних новостей и рука привычно стелет холостяцкую постель ни о чем не беспокоясь только порцию свою докурив я прыгну в поезд на чужую колею просто задрожит ресница просто вслед за колесом закрутится и приснится легкий и короткий сон как в заросший пруд стесняясь мальчик входит голышом закрываясь от огня весь полным солнцем обожжен и подростка окружая стягивает зеленца и по ней ползет живая тень от детского лица
Алексей Королев. Эюя. М.: Atelier ventura, 2015
Новый мирЯ жалею о том, что поэзия Алексея Королева не очень хорошо известна даже среди знатоков. Наследующая «Московскому времени», при этом одновременно более игровая по форме и подчас более личностно-трагическая, эта поэзия обличает серьезного мастера. «Эюя» – вторая книга Королева, вышедшая в 2015 году в его издательстве «Atelier ventura»; в первой, «Вне», собраны некоторые стихотворения прежних лет, в «Эюя» – только новые тексты. Вольность, с которой Королев работает с просодией модернистского извода (его конек – ассонансы), подходит и для нарративных текстов («мой брат приехал внезапно»), и для сугубо лирических; их объединяет фигура, я бы сказал, встревоженного лирического субъекта, чувствующего момент надлома мира, момент, с которого все пошло не так («все испорчено за миг»). Это ощущение в концентрированном виде, спровоцированное названным или не названным, но угадываемым событием, и раньше наполняло лучшие вещи Королева, например стихотворение «кумач» и поэму «корпус № 5», написанную после смерти Алексея Парщикова. То же мы наблюдаем и в новой книге:
меня как будто заменилилишили обаянья утрсеребряные сувенирывместо него вложили внутрьСимптомы, вызывающие тревожность и недоверие к миру, могут найтись где угодно. Как в ироническом пассаже из статьи Мандельштама «О природе слова» («На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь»), только всерьез:
парковый дискобол,ты же здесь неспроста?смерть одного с тобойвозраста.Опыт символизма, разумеется, растворен в этих стихах, как и другие голоса русской традиции, и оснащен звуковым инструментарием, появившимся в последней трети XX века: в предыдущей цитате отчетливо слышна ритмика Бродского, окороченная частой у Королева разноударной рифмой. Но вообще, если мы по-прежнему говорим о каком-то «традиционном стихе» (см. также следующую заметку), то нужно еще раз отметить исключительную ширину поля его возможностей и заметить, что поэзия Королева находится на краю этого поля (в более ранних текстах, формально изощренных на грани неудобочитаемости, это еще заметнее; стихи, записанные в подбор без знаков препинания, а то и без пробелов, в самом деле формируют ощущение слитного потока сознания). Поучительно сравнить следующее стихотворение Королева, например, с поэзией Юрия Казарина: совпадение мотивов и образных рядов при полном несовпадении поэтической техники – что показывает, в свою очередь, и неисчерпанность этих мотивов; стихотворение Королева, конечно, эскапистское, но это эскапизм со скептическим оттенком, с возможностью возвращения в скобках:
только скинешь кожу жабьюи поселишься в глушикак колодезною ржавьюпокрываются ключиа кому они ключи тамдля какой такой рукиесли лесом нарочитымветер ходит напрямкиесли стопы книг домашнихсторожит пыленный слойесли над трубою вальдшнептянет синею веснойЛинор Горалик. Так это был гудочек. Ozolnieki: Literature Without Borders, 2015
ОктябрьЭто очень сложная и очень страшная книга. Тема смерти, постоянно возникающая в ней, сильно отличается от того многого, что на эту тему сказано современными русскими поэтами – в диапазоне от Алексея Цветкова до Виталия Пуханова. Смерть у Горалик, с одной стороны, тотальна, с другой, – с ней можно играть, перекликаться, трещать в базарный день (как в одном стихотворении Эугениуша Ткачишина-Дыцкого). Самым экстремальным образом Горалик тестирует, зависит ли смерть от отношения к смерти, задает вопрос: «кто на ком стоял» в максиме «бытие определяет сознание»: «и жизнь выходит / и каждый день побеждает смерть / и каждый день побеждает смерть» – повтор подчеркивает возможность двойственного чтения фразы (и отсылает к фростовскому двойному And miles to go before I sleep).
Говорить об этом, может быть, дико, потому что стихи Горалик имеют дело с таким материалом, который отказывает в праве на существование обычным человеческим эмоциям. Вот стихотворение «Наша Аня все кричит через свой стафилококк…»:
Наша Аня все кричит через свой стафилококк, —Красноморденький щенок, сердца жилистый укус.А он качает колыбель(ну, какую колыбель? – трясет разъ…тую кровать) —и бормочет, борбормочет,и видит красными глазами,как исходит на крик кошка;от боли вертится собака, —а наша Аня разжимает побелевший кулачок.А вот, с другой стороны:
В парке, под бобыльником простым,умирает старый молодым:гордо, молча, с каменным лицом, —словом, умирает молодцом.Рядом, под клеменцией простой,умирает старым молодой:стонет, плачет, дергает лицом, —тоже умирает молодцом.Смерть – и состояние, и пространство, и персонаж. Этот персонаж может предстать и в образе маленькой девочки, обладающей «сверхспособностью» – обессилить человека или даже самого Бога. Вот кроссовер двух богатых жанров – прения со смертью и прения с Богом:
– Смертинька, Смертинька, кто твоя бабушка?– Вечная воля Твоя. Вяжет из лыка удавки, голубушка,давит винцо из тряпья.– Смертинька, Смертинька, что твои сказочки?– Темные лясы Твои. Точат и точат несладкие косточкитех, кто лежит в забытьи.– Смертинька, Смертинька, где твои варежки?– В темном притворе Твоем. Трогают, трогают медные денежкипод золоченым тряпьем.– Смертинька, Смертинька, что твои саночки?– Слов Твоих скользкая суть. Вон как летят по раздавленной улочке,ищут, кого полоснуть.– Смертинька, я ж тебе был вроде крестного!Ты меня этак за что?– Дядя! Я так, повторяю за взрослыми.…Где ж мои варежки-то?Где-то полтора десятилетия назад Данила Давыдов предложил термин «некроинфантилизм», обозначающий тенденцию к острому сближению мотивов детства и смерти в новейшей русской поэзии. Горалик, обладающая мощным фольклорным чутьем, знает, что ничего нового в этом сближении нет: достаточно вспомнить многочисленные народные «смертные колыбельные». Агонизирующие кошка и собака – это, конечно, те самые, которым всегда пытаются передать чью-то боль в материнском заговоре. Сказка о репке оказывается моделью для перехода из одного мира в другой: «Потом сначала бабка, позже – дедка. / Потом зима, ты возишься с картошкой – / И чувствуешь, как полегоньку тянут. / Уже тихонько начали тянуть».
Фольклоризм здесь исключительно важен: пластичность песенной стихии сочетается с поэтическими формулами, смысл которых обновляется «на ходу». Стилистические регистры быстро сменяются один другим (будто к страшному пробуешь подступиться с разных сторон), но песенная просодия делает эти переходы плавными:
я вернулась – на сосцах наколки,на резцы наколоты малявы,мною обретен пароксизмальныйдискурсивный опыттам, где всяк надзорен и наказан…И тут любопытно то, что вневременнáя природа фольклора у Горалик выворачивается всевременно́й изнанкой. Невозможно точно сказать, в каком времени и пространстве совершается речь в стихотворении, где «в Лицею» к Виле приходит «Волка», где соседствуют Лесбия и кобла, ретвит и малява; речь идет о постоянстве зла, потому что в любое время и в любую эпоху можно представить себе такой диалог: «– А и страшно, Виля, нынче воют! / – Ладно воют – страшно подвывают». Соседство высокого и низкого – например, явление пророка в какой-то чудовищно-блатной стихии – выражает остроту тоски, которую отрицают, но ощущают даже хтонические убийцы, когда с пророком наконец покончено: «и кого ебет? – никого ебет, / что при нас красавица не поет / и медведь не пляшет». Кроме всего прочего, эту книгу почти бессмысленно рецензировать в российских СМИ после закона о мате, в котором, кажется, смерть тоже находит повод для торжества.
Римма Чернавина. Вспять к восхожденью: Сивилла Космическая 2. М.: Издательская группа ABCdesign, 2015
ПрочтениеКнига Риммы Чернавиной – прекрасно изданный том, продолжающий вышедшую в 2008 году первую «Сивиллу», – демонстрирует искусный парадокс: при том, что фигура говорящей исключена из множества текстов, ее присутствие чувствуется здесь постоянно. Значительная часть поэзии Чернавиной – это меткие и едкие наблюдения «для себя», дневник встреч и событий. Но подзаголовок «Сивилла Космическая» заставляет прозревать в образе автора этакую «держательницу мира». Для мира важны ее оценки, а то и просто факт встречи с ней (подобное «творение встреченного персонажа» мы находим в недооцененном романе Пелевина «t»):
***Бабка в тренировочных синих штанахи толстых бутсах —топ – хлопхлоп – хлоптоп – хлоп***Врач,лечащий бесплатнои упрекающий пациентов в корыстолюбии***Немец с животомзнающийкак надо житьТакое взаимодействие – реплика ни для кого и для всех – возможно не только с людьми, но и с животными, и даже со стихиями и временами года:
15 МАРТА 97 г.Зима спохватилась…понамела снега за ночь —поздно, матушка, поздноОценка – ключевой, этический компонент этих стихов. В приведенных выше примерах она имплицитна, но порой Чернавина выводит ее наружу. При этом каким-то образом сама форма текста удерживает его от падения в пропасть морализаторства:
Красивый юноша в кирпичном пиджакено на лице уже печать —никтоили:
Дома – недостроенные,люди —недоделанныеТакие тексты, как большое и почти идиллическое «Рождение листа», казалось бы, позволяют утверждать, что косному человеческому миру в стихах Чернавиной противопоставлен мир природный. Однако эта простейшая дихотомия для Чернавиной не годится: «в мире животных» она готова увидеть «заболоцкую» жестокость. Разница с человеческим миром в том, что здесь есть все основания – в соответствии с реальностью – переместить эту жестокость по ту сторону этики. «Трагическое» событие в этом мире – повод только для наблюдения. Вот два примера:
***В маленьком зеркальцеотражаетсяи радуетсясвоему отражениювеселый попугайчикГошаха-рр-о-шийкошачья тень метнулась по стенев печальном зеркальценет больше Гошиха-рр-о-шего***Небольшой черный котенок,Распластанный на дороге,Охранял свои красные внутренности.Тон меняется, когда среди действующих лиц появляются люди (ясно, что черного котенка убил автомобиль, но его в тексте нет). Большое стихотворение «Убитая кошка» повествует о том, как кошку замучивают до смерти трое детей, движимые интересом познания («как три маленьких исследователя»). Стихотворение превращается в панегирик кошачьему мученичеству:
От нее хотели, чтобы она по своей же волеДемонстрировала собственную смерть.Кошка оказалась святой.Она и тут пыталась сделать все, что могла.Такой же измененной интонацией, в которой сочетаются заинтересованность и ужас, отличаются стихи «Пляска смерти» (о пойманных рыбах) и «Всем петухам, живущим ныне, и тем, что будут!» (о петухе, убитом ради супа). Характерно, впрочем, что люди и животные здесь – части цепи, порядок звеньев в которой оспаривает «подвижную лестницу Ламарка». Моностих, озаглавленный «Нисхождение», выглядит так: «Растение – человек – зверь – минерал»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов упомянутых в книге авторов – Дмитрия Быкова, Линор Горалик, Дарью Серенко.
2
Корчагин К. Вовне и вовнутрь // OpenSpace.ru. https://os.colta.ru/literature/events/details/32015/ (дата обращения: 23.12.2023).
3
Более подробный текст о «Четырехлистнике для моего отца» – на с. 447–461 настоящего издания.
4
См. отзывы на книги Сунцовой «Лето, полное дирижаблей» и «После лета» на с. 102–104 настоящего издания.
5
См. отзыв на книгу «salva veritate» на с. 112–114 настоящего издания.
6
Отзыв на книгу А. Ровинского «Незабвенная» см. на с. 177–179 настоящего издания.
7
Об особой лексике // Воздух. 2013. № 1–2. C. 233–235.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

