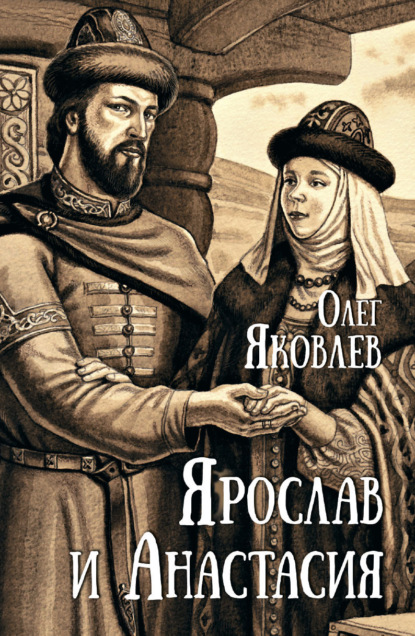
Полная версия:
Ярослав и Анастасия
Своего состояния Избигнев сам не мог понять. Пытался рассуждать про себя, но только пожимал плечами и… по-прежнему не понимал ничего. Ну, помер прошлым летом на пути из Смоленска старый, ветхий летами великий князь Ростислав Мстиславич, ну, замутилась было земля Киевская, дак вборзе Мстислав Волынский с галицкой помощью отодвинул посторонь дядей и прочих ненасытных родичей. Всем определил волости, умирил кого словом, а кого и угрозою. В Новгород послал на княженье старшего своего сына – Романа, не обделил и двоюродников своих. Давид Ростиславич получил из рук его Вышгород, брат же его Рюрик сел в Овруче, в древней земле древлян. После ходил Мстислав во главе рати союзных князей далеко в степь, на Орель[144], бил в пух и прах половецкие орды, очищал путь торговым судам в греки. Силён стал бывший волынский владетель, ему завидовали, перед ним склоняли головы, им восхищались.
Вроде бы и союз прежний с Галичем был у Мстислава крепок. Дружины галицкие водил на половцев вместе с иными служивый князь Святополк Юрьевич, показали в боях со степняками галичане дерзость и отвагу настоящих героев. Но всё одно – тяжесть какая-то висела на сердце у Ивачича.
Ещё более усилилась тревога его, когда постучался он в ворота дома старинного приятеля своего – Нестора Бориславича. Встретил его у врат некий незнакомый служка в монашеской рясе, долго подозрительно осматривал, вопрошал, кто и откуда. После, кое-как сопроводив в сени, отмолвил на вопрос, где хозяин:
– Лихо у нас. Боярин Нестор с братом Петром в Вышгород утекли. Нощью, тайно. Размолвка у их вышла со князем Мстиславом. Обвинил князь боярина, будто табун увёл тот у его и клейма свои на коней поставил. Да токмо лжа всё. Оговорили Нестора Бориславича вороги. А ты, баишь, дружен с им был? Дак вот те совет мой: езжай с Киева подобру-поздорову. Смута у нас вызревает. Недовольны князи и бояре самовластьем Мстиславовым. Крут он.
Сильно встревожил Избигнева рассказ служки. Поспешил он к себе на Копырёв конец, в новый свой терем. Подъезжая, невольно залюбовался красотой места и серокаменной башней над кровлями теремов. Да, разжился он. И как не хотелось бросать всю эту красоту, почитай, своими же трудами и созданную!
Ингреда не разделяла опасений и беспокойства Ивачича. Пожав плечами, сказала она ему:
– Что князь с Бориславичем не поделил, то его дело. Нам с тобой ничего не угрожает. С Галичем князь Мстислав будет прежний союз иметь. Неглуп он. И что мне бояться? Мать Мстислава, княгиня Рикса, меня с малых лет растила. Почти родная я им всем.
Мало-помалу Избигнев успокоился, улеглись в душе его тревоги и сомнения. Подумалось, что, воистину, Ингреда права. Как жили, так и будут они жить. Будут приезжать сюда, в стольный, останавливаться надолго, будет он здесь отдыхать от перипетий княжеской службы. Сейчас же ему надо было возвращаться в Галич. Ингреда с сыном останутся в Киеве до лета. А там ждут их новые заботы, новые великие и малые дела. В Свинограде тоже мыслил Ивачич обновить старые хоромы. Как-никак княжой муж.
…Поутру, отоспавшись, выехал Избигнев по знакомой дороге в Галич. Заканчивался февраль, снег начинал таять, и он торопился, стараясь успеть до распутицы. Недолог путь, а подгонять приходилось резвого скакуна. Внизу, под копытами местами стояли лужи, снег превращался в грязное месиво. Конь тяжело дышал, выпуская в воздух клубы пара.
Но вот осталось позади Межибожье, посверкал свинцом церковных куполов шумный людный Теребовль, и маячат уже впереди за гладью Днестра и широким мостом строения Галича. Близит конец пути.
…Снова, как и много раз ранее, поутру Избигнев сидел на лавке в княжеской палате напротив Ярослава. Говорили о многом: о походе на половцев, о недовольстве князей Мстиславом, о Несторе и его брате.
Снова закрадывалось в душу Ивачича давешнее беспокойство. Не таясь, он поведал о мыслях и чувствах своих князю. Осмомысл хмурился, отводил взор в сторону, молчал, словно примериваясь и прикидывая, как быть. Наконец промолвил твёрдо:
– Союз с Мстиславом рушить не буду, роту[145] не преступлю. Ведомо мне: ведут князья речи крамольные против Изяславича. Исподволь смуту сеют. Ко мне тоже посылали. Так вот: я им в этих злых делах не товарищ. Мы, галичане, на своих рубежах стоим, чужого нам не надо. А как со Владимиром Мачешичем, стрыем[146] Мстиславовым, дружбу водить, ты, Избигнев, помнишь, надеюсь. Вертляв он, от одного князя к другому бегает. И предаёт всех и вся. И многие такие, не один Владимир. Ну да довольно о них. Покуда ты в Киеве был, приезжали ко мне из Северы[147] бояре. Фросю сватают за князя Игоря, сына Святослава Ольговича покойного. Поразмыслил я, прикинул, что да как, и дал согласие. Об Игоре молва добрая идёт. Осьмнадцать лет парню, а уже на рати себя показал, половцев сёк. И, говорят, статен, собою пригож. Одно слово: добр молодец. Ударили мы по рукам.
«Вот как, выходит. Фросю, значит, устраиваешь… И что тогда? Как со княгиней Ольгой быти?» – Избигнев промолчал, но уставился на Осмомысла вопросительно.
Князь, заметив его выразительный взгляд, грустно усмехнулся и тотчас перевёл разговор на другое.
– Владимир совсем от рук отбился, – пожаловался он. – На княжну Болеславу и глядеть не желает, всё по кабакам пропадает, с бабами непристойными водится. Тако вот. Уж и не знаю, как управу на него найти. Жалко Святославну, конечно… А Ольг мой растёт. Уже и ходит, и говорит. Одна радость. – Лицо Ярослава внезапно просияло.
Обо всём забывал он, когда заходила речь о Насте и сыне. Ради них двоих готов он был на что угодно. Ольга и Владимир – да, они были, жили, существовали где-то рядом, но становились они лишними, чужими, ненужными в жизни его. Понимал, что поступает неправедно, что беду может навлечь на Галицкую землю, и потому ждал, не решался на открытый разрыв. Ждал… неведомо чего и зачем.
…Тревога Избигнева после беседы с князем лишь возросла. Выходит, и здесь, в Галиче, небезопасно теперь. Уже подумывал он, как бы поскорее съездить ему в Киев да привезти в родной Свиноград жену и сына, как вдруг среди ночи постучали ему в окно. По терему засновала, забегала челядь. Во дворе вершник на запаленном скакуне коротко сообщил:
– Рати суздальские ворвались в Киев! Жгут, грабят! Князь Мстислав на Волынь ушёл! Разор и насилье в стольном!
Избигнев в ужасе застыл на ступенях крыльца.
Глава 25
Смотрела на себя в круглое серебряное зеркало в украшенной самоцветами оправе, каждый раз находила себя всё более привлекательной, любовалась своей красотой. Хотелось прыгать от счастья, смеяться весело, радоваться удаче. Светились лукаво серенькие половецкие глазки, на тонких розовых устах играла приятная улыбка, брови-стрелы были подведены сурьмой, на ланиты наложены румяна. Распущенные волосы цвета золота плавно ложились на плечи.
Всё было прекрасно в молодой Настасье, была красота её всепобеждающа, она вырывалась из тесных стен боярских теремов и летела словно бы, парила в воздухе, заявляла о себе. Вот, мол, я какая! Кто, что сильней, что краше меня в этом вашем мире?! Вера?! Лёгкий смешок пробегал по накрашенным коринфским пурпуром губам. Что им, этим уродливым людишкам, прячущим своё безобразие под чёрными рясами?! Они ненавидят земную красоту, потому как для них она недостижима и недоступна. Тогда, может, стремление к власти, к богатству превосходит её прелести, затмевает разум мужчин? Да, конечно, но своей красотой она достигла всего, чего хотела. Один шаг осталось ступить – добиться, чтоб прогнал князь из хором своих эту крикливую ненавистную ей Ольгу, и тогда… Тогда она станет княгиней, она исполнит свою мечту, она заблистает на пирах и на приёмах иноземных послов, ей будут целовать длани, её будут просить о всяких услугах (впрочем, просят уже и теперь), наконец, один лишь её благосклонный взгляд будут принимать как высшую награду.
Зеркало отложено в сторону. Прислужница принялась заплетать Настасье косу, другая уже приготовила узорчатый плат с вкраплёнными каменьями, держала его на руках, любуясь переливами самоцветов.
Отец, боярин Чагр, появился на пороге, нерешительно потоптался, кашлянул, обращая на себя внимание дочери. Он всегда ходил тихо, крадучись, словно боясь чего-то, косил по углам, в тёмных переходах дворца всегда клал крест. Настя смеялась над этой отцовой осторожностью, но Чагр, качая головой, всякий раз предупреждал её:
– Ворогов тут у нас с тобою много, дочка. Вот и хоронюсь. Князь от всех оберечь не сможет, самим нам с тобою надобно о себе заботу иметь.
Выждав, когда челядинки, створив своё дело, скрылись за дверями покоя, боярин удобно расположился на лавке возле забранного слюдой окна. Заговорил медленно, поглаживая светло-русую бороду:
– Что князя ты окрутила, то добре, дочка. Он топерича у нас, что пёс ручной. Одно что еду из рук не тащит.
– Люб мне Ярослав! – оборвала речь родителя, недовольно сдвинув брови, Настасья. – Сын у нас. Не молви тако, не смей!
Чагр в ответ лишь хитровато подмигнул ей и криво усмехнулся. Известно, мол, что у тя, доченька, первей – побрякушки сии златые, мечты высокие али князева любовь! Видал, знаю, как каждую седьмицу ездишь ты, ведуница, в терем на Ломнице, как готовишь зелья приворотные!
Сделав вид, что согласен, что поверил её словам, поспешил боярин перевести разговор на другое:
– Вот о чём сказать тебе хочу, Настя. Князева любовь – оно, конечно, добре. Но надобно нам с тобою поболе людей верных иметь. Не слуг, не рабов – нет. Сего товара у нас хватает. Из бояр, из житьих людей верные нужны. Ты им когда пособи, когда князю что шепни, когда сама приласкай да обольсти.
– Молвила ить: Ярослав один мне люб!
– Опять ты меня не поняла, дочурка. Приласкать – не значит вовсе, что в постель тащить. Иной раз слово доброе большую силу имеет, чем близость плотская. Мало того, такое скажу: близко особо к собе никого не подпускай. Держи на расстояньи, но привечай. Сим токмо преданных людей обретёшь. Вот, к примеру, устроиться ты помогла троим братьям Кормилитичам. Яволод при дворе стольником служит, Ярополк – во дружине молодшей супротив половцев на Орель ходил, а Володислав волость родовую из рук твоих, почитай, получил. Вот, поглянь на сих молодцев, приветь. Расспроси их, как и чем живут. Кого одним взглядом одари, а кому, к примеру, какую безделушку подкинь ко свадьбе али к именинам. Потом, живёшь ты ныне, яко княгиня, свиту свою имеешь. На твоём бы месте пригляделся я ко двум девчонкам из житьих. За столом они боярыням знатным прислуживают да всякие делишки малые в тереме проворят – платы и убрусы вышивают, посуду злащенную порченную к ремественникам носят. Работой лишней не обременены хохотушки сии. Весело им, вольготно живётся. Бают, князь Ярослав во время потопа их спас. Вот, улыбнись им лишний раз, слово доброе промолви, робёнка доверь, чтоб поиграли да покормили. Тоже верны тебе будут Фотинья с Порфиньей.
– Имена-то экие заковыристые! – удивилась Настя. – Не спутать бы их. Ну а Кормилитичей и вовсе различить трудно. Который Яволод, который Ярополк – бог весть. Одинаковы, яко две капли воды.
– Ничего, разберёшься, если желание иметь будешь. Главное, запомни мой совет. Ищи и обретай людей верных. Без них, Настя, не осилить нам княгиню Ольгу и суздальскую её свору.
…Крепко запомнила Настасья отцовы слова. В тот день долго задумчиво бродила она по палатам терема, шурша богатым парчовым платьем. Князя в доме не было – выехал он творить суд в одно из сёл на Днестре. Тихо было в покоях, лишь во дворе кипела жизнь – скрипели телеги, ржали лошади, громко говорили меж собой отроки и челядинцы.
Вспомнилось вдруг молодой женщине детство, игры на этом дворе и забавный баловник Петруня, сын поварихи. Где он теперь? Жив ли?
Направила Настасья стопы вниз, на поварню.
Постарела, пополнела Агафья. Говорила медленно, страдала одышкой. Настю она вспомнила не сразу, подивилась причудам столь высоко вознесшей её судьбы, о Петруне же сказала так:
– Не стал сынок мой при дворе прислуживать, попросился в дружину княжью. Дома топерича редко бывает. Нынче на стене градской охрану несёт.
– Как явится, пущай ко мне придёт без боязни. Я, чай, не обижу. Давние мы знакомцы, – холодно промолвила Настасья.
На улицу она выходила редко, в собор Успенский – ещё реже. Ловила всюду осуждающие взгляды степенных горожанок, слышала заспинный шепоток:
– Наложница княжеска! Ни стыда, ни совести! Ведьма, воистину ведьма! Красота колдовская, словно и не человечья!
Господи, как ненавистно было ей это слово гадкое: «наложница». Будто она без роду, без племени. Привёз её князь к себе в хоромы, положил, как вещицу красивую, и держит при себе, любуется.
«Княгиней стать хочу! Боже, помоги рабе своей!» – немо молила она в темноту, держа в руке тонкую свечку.
Петруня пришёл к ней в тот же вечер. Сидел, смущённо стискивал длани в кулаки, словно не зная, куда их деть, смотрел несмело на подружку своих детских игр, говорил, что рад будет ей служить.
– Я тебе помогу по дружбе. Хочешь начало получить над сотней? Князя попрошу, тотчас содеет, – предложила неожиданно Настя.
Петруня аж вздрогнул. Засветились глаза его, спросил он, краснея, стесняясь самого себя и своих вопросов, но в то же время с радостной надеждой в голосе:
– Правда? Давно хотел…
– Ну, тогда дело решённое. Мне князь не откажет. Токмо, отроче, об одном прошу: не забывай сию услугу. Помни, кто тебе добра желает.
– Николи не забуду, светлая… – Он на миг замешкался, думая, как к ней обратиться. – Боярышня.
Настасья благосклонно склонила голову.
«Ничего, вборзе по-иному величать мя будете», – думала она, с улыбкой глядя на некрасивое носатое лицо увальня Петруни. Надо же, какой вырос. А малый был шустрый да ловкий. Вот как порой жизнь людей меняет.
…С девушками тоже получилось просто и легко. Чагр мог быть доволен дочерью. Позвала Настасья Фотинью и Порфинью в свои покои наутро, велела заправить постели, а после поручила их заботам крохотного Олега. Годовалый мальчик только-только научился ходить, и юные отроковицы, держа его за руки, вывели гулять в сад. Стоя на крыльце, Настасья слышала их громкие голоса и звонкий смех. Сперва она не могла понять, которую девушку как звать, но быстро сообразила: светленькая и курносенькая – та Фотинья, чёрненькая и смуглолицая – Порфинья. Фотинья шустрая и весёлая, Порфинья – более строгая и рассудительная. Миловидны дочки житьих, но ей, Настасье, обе они – не соперницы. Куда им? Ну, повертятся в княжом тереме, а потом выйдут замуж за кого-нибудь навроде Петруни, нарожают чад. А может, кто из них похитрей окажется, поближе ко княжому столу устроится. Вон та, с носиком смешным, стойно шарик, по всему видно, ловкая девка. Окрутит какого боярчонка и будет здесь, в Галиче, в тереме боярском хозяйничать. И надобно, чтоб помнила, не забывала, кто ей прежде иных милость оказал и возле себя пристроил.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Червонная Русь – то же, что Галиция. Историческая область на западе совр. Украины и на юго-востоке и востоке Польши.
2
Людины – основная часть населения Киевской Руси в IX–XII веках, свободные общинники. Их зависимость от феодалов заключалась в уплате дани.
3
Стол – здесь: то же, что престол.
4
Западный Буг – река в Восточной Европе. Южный Буг – река на юго-западе современной Украины.
5
Эвксинский Понт – греческое название Чёрного моря, дословно означает «гостеприимное море».
6
Десница – правая рука.
7
Заборол – площадка наверху крепостной стены, где во время осады находились защитники крепости.
8
Лов – охота.
9
Смерды – категория феодально зависимого населения в Древней Руси. О смердах мало что известно. Видимо, это узкая социальная группа, тесно связанная непосредственно с князем.
10
Закупы – феодально зависимые крестьяне, попавшие в кабалу за долги, но могущие получить свободу после выплаты долга.
11
Половцы (куманы) – союз тюркоязычных племён, занявших в середине XI века причерноморские степи. Совершали набеги на русские земли, участвовали в междоусобных войнах русских князей.
12
Бей – у половцев это глава семьи, наименьшей единины деления племени. Племя делилось на орды, каждая орда делилась на роды, а роды в свою очередь – на семьи.
13
Соловый – желтоватый, со светлым хвостом и гривой.
14
Намедни – накануне.
15
Дружина – воины, находящиеся на содержании у князя и кормящиеся за счёт его походов. Дружина делилась на старшую и младшую.
16
Корзно – княжеский плащ, богато украшенный, был распространён на Руси до монголо-татарского нашествия, во второй половине XIII века вышел из употребления. Существовали лёгкие и тёплые корзна, подбитые мехом.
17
Фибула – застёжка.
18
Лунский – английский.
19
Выя – шея.
20
Гривна – здесь: драгоценный обруч, который носили на шее. Этот обруч дал название денежной и весовой единицам Киевской Руси.
21
Окрест – вокруг.
22
Угры – венгры.
23
Эстергом – столица королевства венгров в X–XIII веках, город на правом берегу Дуная к северу от Будапешта, близ венгеро-словацкой границы.
24
Базилевс – титул византийского императора. Ромея – то же, что Византия. Ромеи – самоназвание жителей Византийской империи, означающее «граждане Рима».
25
Челядь – то же, что обельные холопы. Обельные (полные) холопы – рабы, основным источником их происхождения был плен.
26
Вершник – всадник, верховой.
27
Токмо – только.
28
Всход – крыльцо.
29
Ол – пиво.
30
Тим – сафьян.
31
Тать (др.-рус.) – вор.
32
Еже (др.-рус.) – если.
33
Бабинец (др.-рус.) – женская часть дома.
34
Сени – отдельная постройка на столбах или на подклете, связанная с теремом висячими переходами.
35
Тя (др.-рус.) – тебя.
36
Жило – этаж, ярус.
37
Днесь (др.-рус.) – сегодня, ныне. Доднесь – доныне.
38
Убрус – женский головной платок.
39
Холоп – категория населения на Руси. Обельные (полные) холопы – рабы, основным источником их происхождения был плен. Необельные холопы, или закупы, – феодально зависимые крестьяне, попавшие в кабалу за долги и юридически могущие освободиться от зависимости, выплатив купу, то есть долг.
40
Удатный – удалой.
41
Гридни – категория младших дружинников в Древней Руси. Часто выполняли функции телохранителей при князе.
42
Кожух – здесь: опашень на меху, шуба, тулуп.
43
Седьмица – неделя.
44
Топерича – теперь.
45
Половцы (куманы) в зависимости от территории проживания делились на «белых» и «чёрных». Отсюда топонимы: Белая Кумания и Чёрная Кумания (примеч. ред.).
46
Посад – торгово-ремесленный район в древнерусских городах, как правило, слабо укреплённый или совсем незащищённый.
47
Майолика – изделия из обожжённой глины, покрытые глазурью и красками.
48
Толковня – разговор.
49
Николи (др.-рус.) – никогда.
50
Тиун – сборщик дани. По социальному положению относился к холопам.
51
Конец – район в древнерусских городах.
52
Встань (др.-рус.) – бунт, восстание.
53
Огнищанин – землевладелец, представитель высшего служилого класса, «княжеский муж».
54
Вышгород – город на Днепре, к северу от Киева. В середине Х века – резиденция княгини Ольги.
55
Тысяцкий – в Древней Руси должностное лицо в городской администрации. В обязанности тысяцкого входило формирование городского ополчения во время войны.
56
Киноварь – краска из одноимённого минерала, красного цвета.
57
Зиждитель (др.-рус.) – зодчий.
58
Киянин – киевлялин.
59
Стойно (др.-рус.) – словно, будто.
60
Отрок – категория младших дружинников. Отроки выполняли различные поручения, использовались в качестве гонцов, посыльных. Считались выше гридней.
61
Вдругорядь (др.-рус.) – в другой раз.
62
Волохи (валахи, влахи) – славянское название румын.
63
Постолы (поршни, калиги) – обувь, гнутая из сырой кожи либо из шкуры с шерстью.
64
Баить, баять – говорить.
65
Олешье – древнерусский город в устье Днепра.
66
Надоть, нать (др.-рус.) – надо.
67
Харалужный – булатный, стальной. Харалуг – булат.
68
Бодни – шпоры.
69
Такожде (др.-рус.) – также.
70
Бадана (байдана) (вост.) – кольчуга, состоящая из плоских колец.
71
Бехтерец – древнерусская кольчуга из металлич. пластинок, соединённых кольцами; монгольского происхождения.
72
Шелом – воинский шлем, обычно конической формы и остроконечный.
73
Мисюрка – воинская шапка с железной маковкой или теменем и сеткой.
74
Далмация – приморская область в Хорватии.
75
Шишак – остроконечный шлем с гребнем или хвостом.
76
Бармица – кольчужная сетка, защищающая затылок и шею воина. Бармицей также называлась дорогая накидка у знатных женщин, закрывающая плечи.
77
Оружный – вооружённый.
78
Перемог – победил.
79
Сулица – короткое метательное копьё.
80
Вместях (др.-рус.) – вместе.
81
Отметчик, отметник (др.-рус.) – предатель.
82
Гульбище – открытая галерея со столпами и колоннами в княжеских или боярских хоромах; балкон, терраса для прогулок и пиров.
83
Поруб – место заключения провинившихся: яма, чьи стенки укреплены срубом, либо изба.
84
Сторожко – осторожно.
85
Серский – китайский.
86
Ставник – столик или шкафчик для помещения образов.
87
Муравленая печь – покрытая изразцами с узорами в виде трав.

